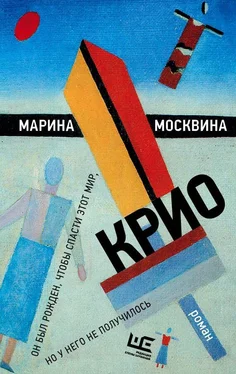«Как ни крути, Биня, рот у меня вряд ли будет такой кривой, как у тебя», – ласково подумал Блюмкин. Иона всегда помнил, что обязан Кривороту – и дудкой, и всей своей фортуной.
…На перроне из окна вагона он увидел Асеньку, она стояла в отдаленье и смотрела на него во все глаза. Поезд тронулся. Иона улыбнулся, махнув ей на прощанье рукой, и тут же она пропала из виду, – полетели заборы, столбы телеграфные, косые домишки, огородики, топольки, сливаясь в одну серо-зеленую вселенскую смазь.
«Родная моя! – писал дядя Саша Панечке из Иркутска. – Ты спрашиваешь, не голодаю ли я? Гранатовы кормили меня вчера пельменями с уксусом и напоили чаем из медного самовара. Рада Викентьевна потчевала горячим пирогом с омулем. Омулей привозят на базар крестьяне. Огромные бочки с омулем: свежим, малосольным, соленым, копченым, даже с сибирским «душком», и на такого находится много любителей! Окунь, щука, сорога, хариус, налим и ленок, даже Стешкина любимая селедка – ничто по сравнению с омулем, разве что осетр ему соперник, но это редкая добыча. Молоко забрасывают в холщовых мешках и продают в виде ледяных кружков разного размера с вмороженными торчащими наружу палочками, чтобы удобнее держать. Бросишь дома такую ледышку в кастрюлю – и у тебя на ужин парное молоко!
Чего тут изобилие, любимые мои, так это ягод: припорошенные снежком, лежат на прилавках горы облепихи, клюквы и брусники. Почему-то вдруг вспомнилось, как в Пятигорске девочка «из низшего общества» предложила Стешке собрать абрикосы на дороге и продавать их на рынке! Есть много разных чудесных вещей в моей жизни, о которых никто не знает, кроме нас.
Сегодня я устал и хочу лечь с тобой в постель. Просто лечь, и всё…»
От профессора Семашко, проводившего вскрытие, Паня слышала о катастрофическом поражении сосудов головного мозга Ильича. Основная артерия при самом входе в череп оказалась настолько затверделой, а стенки ее до такой степени пропитаны известью, что когда пинцетом ударяли по сосуду, звук был такой, будто стучали по кости.
– При вскрытии мы прямо диву давались, – говорил Панечке профессор Семашко, – как можно было с такими сосудами не только жить, работать, но и упорно стремиться в лес за грибами!
В феврале двадцать третьего года Владимир Ильич еще диктовал стенографистке секретное «Письмо к съезду партии», где предостерегал большевиков от размежевания, разоблачал крючкотворов, осаживал рвущихся к львиному трону Троцкого и Сталина, вразумлял своих компаньонов, уже тогда злоупотреблявших яростию, скупостию, объедением без сытости, многоглаголанием, пьянством, сребролюбием, гордым обычаем, плотским вожделением и властью.
Потом наступило резкое ухудшение. Вся страна, жестокосердно покончившая с богами, молилась за него, надеялась на чудо – вдруг опамятуется Ильич, выкарабкается и, неутомимый, энергичный, напористый, будет вновь ужасать буржуев и царей?
Когда же в июле двадцать третьего этот стихийный колосс восстал, наподобие Лазаря, почти научился писать левой рукой и приступил к возрождению полностью утраченной речи – радости не было предела.
В синей косоворотке, в пиджаке и сапогах, прихватив охотничью свору, еще сам едва живой, он поехал стрелять чернышей. Лесной объездчик в поддевке Потаенок со слезами на глазах рассказывал Пане, как Владимир Ильич любил Горелый пень – лес, где он охотился. И с какой радостью он, простой лесничий, провожал его взглядом, с какой любовью смотрел и думал: «Вот, наш Ильич скоро совсем поправится».
Первые недели странствования по реке были райским блаженством. За Оршей, сразу за Колебякскими порогами Днепр широкий и полноводный. Апрель-заиграй-овражки, синий воздух, синяя вода, чистые деревья, разъезженные дороги, по реке плывут прошлогодние листья. Выехали – бугорки снега топорщились на полях, снежные ошметки, комковатая пашня черной земли, и по этому барельефу вышагивали грачи с металлическим блеском крыла, оставляя грязные следы в снегу.
А как стали уходить на юг, березовые верхушки подернулись бледными желтоватыми точками и мазками, по береговым откосам заголубели подснежник и цветки барвинка, в прозелени лужаек показался одуванчик.
Иона играл днями напролет, одинокий романтик, тонкий, ранимый, мечтательный. Речные ветры освобождали из прочных уз повседневности, от всего, что мешает воспарить в небеса, промывали свежестью, встряхивали и бодрили. Он и думать не смел, что когда-нибудь станет частью музыкального товарищества, вровень с трубачом Кунцманом, – несмотря на возраст, тот имел поразительные дыхательные возможности! Его сын Адольф тоже стал неплохим трубачом, а заодно и тромбонистом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу