– Да что же это… Там подпись! Первого заместителя… Вашего этого… – должность липла на языке и не хотела обрастать звуком и содержанием.
– Мне знакома подпись Генриха Григорьевича. Я внимательно читаю документы. Все документы! – Окунев сделал ударение на местоимении «все». А голос обычный, человеческий, только немного ленивый, отчего слова не вылетают – вытекают с одолжением. – Ждите в коридоре.
И Лина стала ждать. Она сидела на стуле, мимо нее проходили какие-то люди, в форме и без, несли озабоченные лица, сжимали в руках папки, листы, портфели. И людей-то немного, и коридорчик узенький, а воздух дрожал от напряжения. И еще воздух проникал в легкие, заражал случайностью и виновностью существования. Чтобы не заплакать, Лина старалась задержать дыхание, вспоминала дом, Машеньку и четырехмесячного Мишу. Миша, Мишель, синеокий, как отец, он был зачат на Соловках во время первого свидания в каюте пришвартованного к острову корабля, где они жили целый месяц… Где тот корабль? Остался? Там ли они поселятся? Господи, сегодня или завтра. Сегодня или завтра она увидит мужа, прижмется к нему, расцелует… Все заныло внутри изголодавшейся женщины. На глаза навернулись слезы. Стало невозможно сидеть на месте, и, чтобы не разрыдаться, Лина встала, заходила по коридору из стороны в сторону и вдруг, повинуясь случайному порыву, осторожно постучала в дверь кабинета.
– Извините, я только…
Окунев сидел за столом и увлеченно жевал. Перед ним на развернутом газетном листке стояла открытая банка консервов, нарезанный крупными кусками ржаной хлеб, свежий огурец, лепестки лука. По правую руку высилась ополовиненная бутыль с мутным самогоном. Лина осеклась, сбилась, в ту же секунду напрочь забыла все, что хотела сказать, а помощник дежурного коменданта удивленно замер, вилка с куском тушенки остановилась на полпути. На мгновение в глазах чекиста мелькнул глупый испуг, как у человека, пойманного на месте преступления, но вот секундное замешательство прошло, и Окунев начал багроветь. Глаза сузились, прорезанные красными жилками, щеки в ярости задрожали. Чекист не заорал – завизжал, как свинья с ножом в боку:
– Я! Сказал! Ждать! В корридо-о-оре!
И уже вдогонку, в закрытую дверь:
– Гнида! Задушу-у-у…
Лину трясло, колотило от страха и гнева. «Господи, ведь это люди! Неужели это люди? У них есть семьи, дети? Не может быть, чтобы дети. Нет, только не дети, детей у них быть не должно. Никогда! Зачем им дети?… Зачем они – детям? Зачем они вообще появились на свет? За что?…»
Лина просидела в коридоре до позднего вечера. Наконец Окунев вышел из кабинета, мягким и плавным движением закрыл дверь на ключ и направился к лестнице. Женщина смотрела в пол, не смея поднять глаза, готовая сидеть всю ночь и весь следующий день и продолжать сидеть столько, сколько потребуется. И вдруг Окунев остановился, обернулся, улыбнулся открыто и дружелюбно.
– Вы еще здесь, Александра Михайловна? Вам разрешено свидание с мужем, Осоргиным Георгием Михайловичем. Четырнадцать дней. Распоряжение товарища Ягоды никто не в силах отменить.
Куда делся тот зверь? Перед ней стоял искренний, добродушный мужчина, который сейчас возвращается домой, к жене и детям. Подбородок Лины задрожал, она закусила нижнюю губу. Усталость, копившаяся в сердце, хлынула к ногам и пояснице, обволакивая тело сахарной ватой.
– Ну-ну, что вы… Не переживайте! На пристани пароход «Глеб Бокий»…
– Да-да, я знаю…
– Конечно, вы знаете, не первый раз… – Окунев заговорщицки подмигнул. – Переночуете на пароходе, а с утра, как говорится, с попутным ветром… Предписание возьмете внизу, у дежурного. Я распоряжусь.
Он протянул ей тот самый листок с той самой подписью, что никто не отменит, и двинулся дальше по коридору, насвистывая под нос веселое, задорное.
Лина спала крепко всю ночь и все утро, она не слышала, как с матом и стоном грузили в трюм парохода заключенных, как заработали винты, и заревела, выплевывая черный дым, единственная труба самого страшного северного парохода.
Октябрь дождил. Природа собиралась в отпуск. Море всхлипывало и волновалось. Лина спала, с каждой секундой приближаясь к Соловецким островам, и снилось ей летнее кафе на Остоженке, где она сидит с мужем и детьми, пьет чай и не помнит прошлого.
Соловки – от слова соль. Солона Россия от слез, пролитых на этой земле. Преподобные Зосима, Савватий и Герман, вы первые ступили на этот берег, вдохнули святость в суровый поморский край. Сотни лет здесь спасали душу, молились Богу, а зачали дьявола. С чего началось? Откуда пошло? Может, бесноватый Иван IV заварил кашу, казнив игумена Соловецкого монастыря, священномученика Филиппа, в миру Колычева? Алексей Михайлович продолжил, сослав автора «Домостроя». И дальше – как по накатанной: хлыстовцы, старообрядцы, расстриги, скопцы, субботники, нестяжатели, политические… Крепкие стены спрячут всех. Поддержал Стеньку Разина сотник Сашко Васильев? «Посадить его в Головленковскую тюрьму вечно, и пребывати ему в некоей келии молчательной во все дни живота, и никого к нему не допускать, ниже его не выпускать никуда же, но точно затворену и зоточену быть, в молчании каяться о прелести живота своего и питаему быть хлебом слезным…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Дмитрий Филиппов На этом свете [сборник] обложка книги](/books/30028/dmitrij-filippov-na-etom-svete-sbornik-cover.webp)
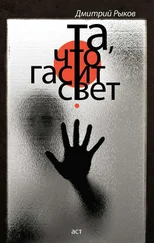


![Дмитрий Филиппов - Вскрытие мозга [Нейробиология психических расстройств]](/books/397406/dmitrij-filippov-vskrytie-mozga-nejrobiologiya-psi-thumb.webp)
![Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]](/books/432181/dmitrij-filippov-bespochadnaya-psihiatriya-shokiruyuchi-thumb.webp)






