– Кругом…
Полная ясность была в голове, а тело не слушалось, дрожало. И Осоргин заскрипел зубами, проклиная себя за слабость. Стоял с полуоткрытым ртом и трясся Сиверс. С губ его свисала слюна. На брюках в области паха разрасталось мокрое пятно. Сиверс всхлипнул.
Картинки прошлого неслись в голове Осоргина беспорядочно, всплывало из глубин памяти самое странное, самое погребенное и ненужное. Скол на ручке теннисной ракетки, воробьи на крыше усадьбы в Знаменском, напряженный лоб великого князя Николая Николаевича, затертые корешки книг в библиотеке Бутырской тюрьмы, дни солнечные, дни морозные, чаепитие на веранде, взмыленная шея коня, старинные костяные шахматы у отца в кабинете, он, Лина и разбросанная по полу избы картошка…
Вдруг все стало понятно и просто.
«Счастье…» – была последняя мысль.
Стреляли по команде. И ровно за мгновение до выстрела Георгий Михайлович Осоргин круто обернулся. Пуля попала в лицо, голова откинулась назад, тело завалилось на дно ямы.
…Расстрелы продолжались всю ночь. Всего расстреляли около четырехсот человек. Один раз сменили расстрельную команду: два конвоира убежали в темноту, хохоча в истерике.
Начальник КВЧ лично прыгал в яму, давил еще живые тела и добивал раненых.
Утром Успенский, пьяный от спирта и крови, зашел в административную часть, прошел в умывальник, стал мыть сапоги. Лицо его раскраснелось, он сипло дышал, смывая с сапог густую липкую кровь.
Красные брызги падали на деревянный пол.
Столетиями.
Судьбами.
Сгустками.
Лина стояла на корме парохода, до боли в пальцах сжимала широкие деревянные леера и упрямо смотрела вслед уплывающему острову. Он уменьшался с каждым метром, с каждой взрыхленной волной, с оборотом винта; стягивались в реденькую темно-зеленую сетку верхушки сосен. Расстояние затушевывало святой-каторжный остров жирными мазками до тех пор, пока не осталась на линии горизонта тонкая черная полоса. Лина всматривалась в эту полоску земли, до крайнего мига сжимала взглядом морскую даль лишь для того, чтобы не оборвать связующую нить, не отпускать в прошлое саму себя, навсегда оставшуюся на этом острове. Ей хотелось задержать в настоящем счастливые дни, мужа, ночные разговоры, их близость, их прогулки по острову… Не за леера цеплялась она онемевшими пальцами – за саму себя в меняющемся мире; и плевать было на законы жизни, на принцип неизбежности, на уходящее и приходящее, на горечь разлуки и радость встречи – первобытная сила любви тянула ее обратно. Да, эти дни останутся в памяти, некуда им деваться, но пока виден остров, пока Лина смотрит вдаль, не уходит в каюту – она с мужем, рядом, и они непобедимы.
Остров пропал, его поглотила необратимость, и свинцовый день зазвучал тоскливым стоном бакланов, плеском тяжелых волн, свистящим шумом винтов; он ударил в глаза плесенью туч, мыльной пеной лопающихся бурунов. Губы женщины скривились, она сплюнула в море подступающий к горлу рев, едкие слезы проели щеку и коснулись губ: как морской водой причастилась. И когда она хотела уже идти в свою каюту, Господь явил чудо.
Разошлись тучи, небо залило золотом, и Лине открылся образ. Картинка желанного и невозможного: они сидят в кафе на Остоженке вчетвером – она, муж, дети, пьют чай, едят пирожные. Георгий протягивает руку и нежно стряхивает крошку с ее верхней губы. А она ловит ртом его пальцы… Так все и было: над холодным Белым морем – их семья, лето, Москва, кафе, счастье! И образ не таял, потому что Лина вдруг ощутила единый закон в увиденном: выше радости и печали, выше жизни – закон творения.
Рука смахивает крошку. Губы ловят тонкие, загорелые пальцы. Улыбаются дети. Ничего не потеряно, все еще впереди. Осталось шесть лет. И они будут сидеть вчетвером в кафе на Остоженке, пить чай, есть пирожные.
Хрупкая, усталая женщина стояла на корме парохода, глядела вдаль. Ветер развевал ее длинные каштановые волосы, трепал подол платья, сушил слезы. А Лина всей душой верила открывшемуся ей чуду. И была непоколебима ее вера.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Дмитрий Филиппов На этом свете [сборник] обложка книги](/books/30028/dmitrij-filippov-na-etom-svete-sbornik-cover.webp)
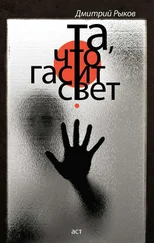


![Дмитрий Филиппов - Вскрытие мозга [Нейробиология психических расстройств]](/books/397406/dmitrij-filippov-vskrytie-mozga-nejrobiologiya-psi-thumb.webp)
![Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]](/books/432181/dmitrij-filippov-bespochadnaya-psihiatriya-shokiruyuchi-thumb.webp)






