– Гражданка, прибыли.
– Да-да… – голос со сна булькающий, сиплый.
Лина опустила ноги на холодный пол, протерла глаза. Никого. Попутчики вышли ночью в Петрозаводске. За окном вмерзло в пейзаж деревянное здание вокзала, перетянутое от угла до угла белым транспарантом с жирными подтечными буквами: «Даешь физкультуру и спорт первой пятилетке». Лина прикрыла глаза.
«Глупость… Господи, какая глупость!»
Вспомнился холодный мартовский вечер четырехлетней давности. «В другой жизни… Все это было не со мной, не с нами…»
Арест Лина запомнила во всех деталях, шаг за шагом, по кадру, но эта незыблемость памяти потребовала усилий, всхлипывающего труда. На какое-то время она погрузилась в полуявь-полусон, что-то делала, собирала вещи, продукты, но в то же время это была не она. А она, настоящая Лина, так и осталась стоять у дверей комнаты, когда ее лениво оттолкнули два человека в соломенного цвета шинелях. Память сохранила все, каждый жест, каждое слово, но прошли недели духоты и усталости, прежде чем Лина смогла наполнить содержанием распоротые на лоскуты минуты ареста.
Это время съел чей-то жадный рот, сожрал с чавканьем, давясь секундами, втягивая их в ненасытную утробу. Вся ее жизнь моментально разделилась на «до» и «после». Счастливое «до» уже прошло, убийственное «вы арестованы» очертило его безвозвратность, а «после» не наступило. И это условное безвременье наполнило рот испуганной слюной, заразило руки подленькой дрожью.
Георгий Михайлович Осоргин, напротив, вел себя очень спокойно. Последние несколько недель в нем стала заметна нервозность, рассеянная угрюмость. Вечерами он подолгу останавливался у окна, молча смотрел на заснеженную столицу. Не дома, не камни, не скамейки, а он сам находился в тисках февраля, и не осталось сил в худых жилистых плечах, чтобы вырваться на свободу. Откуда выбираться? Куда? В один из таких вечеров он обмолвился: «Помнишь, Лина, как играли в теннис в Знаменском? – помолчал и добавил: – Вот и Господь сейчас в теннис играет. Россией…» И так он монотонно это сказал, что Лина вдруг испугалась спрашивать – с кем.
Предчувствуя непоправимое, отвезли годовалую Марину к тете Лизе. А вечером 6 марта 1925 года, за несколько часов до ареста, Лина, убирая посуду со стола, обронила нож. Осоргин необыкновенно оживился, заулыбался: «Все, родная, жди гостей!» И они пришли. Два красноармейца – шинели, суконные «богатырки» и командир – кожанка, четыре треугольника в петлице. Солдаты в валенках, командир – в стоптанных, когда-то скрипучих сапогах, галифе наружу. Три синих ромбовидных полоски на серой гимнастерке. Фуражка с красным околышем и темно-синей тульей с малиновой окантовкой. А лица, лица-то какие! Простые, без злобы, внимательные и утомленные. Словно дела – не дела, работа – не работа, республика – не республика, а мы люди маленькие, приказ, товарищ, должны понимать.
Осоргин вдруг успокоился, с наслаждением закурил. Лина плакала, пыталась объяснить, курлыкала испуганной голубкой – мир ее рушился на глазах, – а муж спокойно сидел за столом, гладил усы, бородку. Глаза его блестели так, как будто озарение снизошло на Георгия Михайловича, и его худоба, бледность, его невысокий рост только подчеркивали глубину этого озарения.
Внезапно он резко ударил ладонью по столу.
Звякнув, подпрыгнула чашка на блюдце.
«Хватит, Александра Михайловна, товарищи устали, предложите им вина». Лина с надеждой посмотрела на мужа: «Какого вина? У нас нет вина». Он улыбнулся: «Тогда вещи мои собери».
После этой мягкой улыбки окончательно испарилось «до», Лина поняла, что как раньше уже никогда не будет. А въедливое «после» приблизилось на один шаг, мелочно и неумолимо. А главное, это разделение, жившее внутри женщины, потеряло условность и вылезло наружу, в реальное время и пространство.
На столе стояла ваза с яблоками. Осоргин взял сморщенный желтый фрукт, маленьким ножиком начал отрезать по кусочку и закидывать в рот, с какой-то жестокостью прожевывая каждую дольку.
Грубый окрик: «Положи нож!» Еще одна долька. Спокойно. Даже мускул не дернулся. «Сука ты! Контра!» Главный в кожанке раскраснелся, подошел резвым шагом к столу, нависая над маленьким человеком, как куча земли, замахнулся кулаком…
Стул отлетел в сторону. Григорий Михайлович Осоргин возвышался над комиссаром; маленький, на голову ниже – возвышался. Разбуженное бешенство кипело в его глазах, выплескивалось наружу, прожигая обшарпанный паркет. Кадровый офицер, гвардии кавалерист, адъютант Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича зашипел зависшему кулаку: «Никогда не смейте мне „тыкать“. Никогда! Вам ясно? Вам все понятно?» Комиссар не опустил руку, но право на удар испарилось. И чем дольше он медлил, тем яснее становилось ему самому: не ударит, не сможет. Потому что не маленький арестованный человек стоял перед ним – весь императорский кавалерийский полк возник за спиной Осоргина; да, великий князь во Франции, но Григорий Михайлович возглавлял не живущих. За его спиной теснились павшие в войне с Германией, друзья, соратники, заведенные генералом Безобразовым под немецкие пушки, удобрившие землю Тавриды в братоубийственном двадцатом году, замученные и расстрелянные в подвалах ОГПУ. И ему, еще живому, они вручали незримое знамя полка, простреленное в боях, обугленное, затертое. Веди, Георгий Михайлович, ты последний остался, веди…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Дмитрий Филиппов На этом свете [сборник] обложка книги](/books/30028/dmitrij-filippov-na-etom-svete-sbornik-cover.webp)
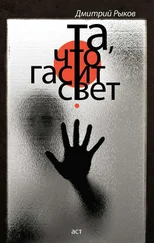


![Дмитрий Филиппов - Вскрытие мозга [Нейробиология психических расстройств]](/books/397406/dmitrij-filippov-vskrytie-mozga-nejrobiologiya-psi-thumb.webp)
![Дмитрий Филиппов - Беспощадная психиатрия [Шокирующие методы лечения XIX века]](/books/432181/dmitrij-filippov-bespochadnaya-psihiatriya-shokiruyuchi-thumb.webp)






