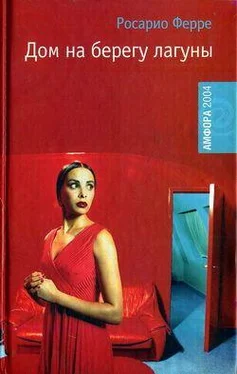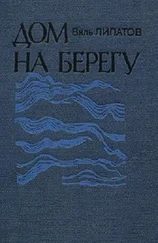В городке заняться было особенно нечем. По вечерам мы ходили в кино посмотреть какой-нибудь фильм с Эвой Гарднер или Роком Хадсоном или гуляли на площади. Мы расставались рано утром у кованых железных ворот. Но около часа дня, когда все в доме спали, я босиком выходила из дома и спускалась в сад. Я сбрасывала рубашку и голышом пробиралась в кустарник патио. Там, спрятавшись среди индейского лавра и клещевины, меня ждал Кинтин.
Прошло уже более тридцати лет, а я до сих пор живо помню те дни. Мы, как безумные, занимались любовью на траве в окружении кротких домашних собак, они взирали на нас с любопытством и весело виляли хвостами, будто речь шла о какой-то игре. Мы были такие юные, почти дети!
Осенью, сразу после возвращения в Соединенные Штаты, мы виделись в Нью-Йорке каждое воскресенье. Мы встречались в отеле «Рузвельт», который тогда стал уже приходить в упадок. В коридорах темно, система освещения была древней: по потолку во всю длину коридора шла труба, а на ней крепились светильники в виде бабочек. Стены – из искусственного мрамора, а газовые светильники покрыты пылью. Отель «Рузвельт» соединялся с Центральным вокзалом подземным переходом. Это было удобно по двум причинам: зимой не надо было выходить на улицу в непогоду – я ненавидела холод, – и, кроме того, мало кто пользовался этим переходом, так что снижалась вероятность столкнуться с кем-либо из знакомых. В то время запятнать свою репутацию было самым большим грехом для девушки из хорошей семьи, и я прекрасно помню извечный страх натолкнуться на кого-нибудь из знакомых в вестибюле отеля. Переход отеля «Рузвельт» был идеальным путем к отступлению: можно было приехать и уехать незамеченными.
Как только я выходила из колледжа, я думала только об одном – как можно скорее оказаться в объятиях Кинтина. Поезд привозил меня на Центральный вокзал. Я бегом преодолевала подземный переход отеля, поднималась на лифте и устремлялась в конец коридора – в заветную комнату с кроватью, где меня ждал Кинтин. Это было все равно что оказаться в конце пути, где желание и расстояние сходились в одной точке. Моя мать и мой отец, Ребека и Буэнавентура – все уходило сквозь стены безымянной комнаты, скрывалось где-то в тумане времени. На этом предбрачном ложе, вдали от недремлющего ока родственников и знакомых, мы потеряли невинность и обрели сознание правоты. Мы погружались в неведомое сладострастие, в очистительный для обоих жар любви.
Узнав Кинтина, я словно кружилась в нескончаемом вихре, который увлекал меня в глубину моей собственной души. Я была безумно влюблена в него и думала только о встречах в саду нашего дома или в отеле Нью-Йорка. Могучее притяжение, которое я чувствовала к своему жениху, не уменьшилось ни после печального эпизода с несчастным певцом, покончившим с собой, ни даже после нескольких лет совместной жизни.
Кинтин был очень хорош собой. Он унаследовал испанскую стать Буэнавентуры: его широченные плечи, шею, как у молодого бычка, и его агатовые глаза. Единственное, что мне в нем не нравилось, – его темперамент холерика. Когда я чувствовала в нем приближение приступа гнева, то опускала голову и отводила глаза. Это был наш тайный сигнал. Кинтин много страдал в детстве от необузданного нрава своего отца, и наш договор был попыткой избежать таких же проявлений у него самого. Какое-то время это помогало: Кинтину становилось смешно, когда он видел мою пантомиму, и гнев отступал. И это нас вновь соединяло.
«Чем дольше мы живем, тем больше у нас на душе шрамов, – говорила мне Баби. – В глубине души каждый из нас ветеран войны: кто-то потерял руку, кто-то ногу или глаз, – всех побила жизнь. А раз мы не можем нарастить себе другую руку или глаз, значит, надо учиться обходиться без них».
Моя мать, Кармита Монфорт, нанесла мне тайную рану, сама того не зная. Когда мне было три года, в семье произошло нечто ужасное. Мы тогда жили в Трастальересе – папа, мама, Баби и я. Трастальерес – это предместье Сан-Хуана, где селились выходцы из среднего и отчасти низшего класса. В то время Кармита была беременна вторым ребенком. Я смутно помню тот день. Я играла в куклы под сливовым деревом, которое росло позади дома Баби, и полуденное солнце свинцом жгло мне затылок. Ванная комната была как раз у меня за спиной, а ее окошко выходило в патио. Мама вошла в ванную и поскользнулась; я хоть и не видела ее, но услышала, как она упала и громко закричала. Я бросила кукол на землю и побежала в другую часть дома, взлетела по лестнице и открыла дверь ванной. Мама лежала на полу, ее кровь растеклась по белому плиточному полу, как мазок красной краски.
Читать дальше