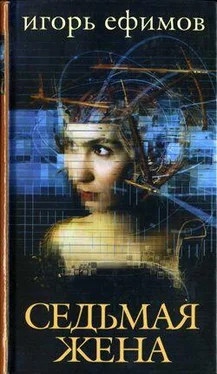Это было еще в первые месяцы, когда они так изворачивались, чтобы муж-5-1 ничего не прознал. Муж-5-1, глядящий прямо перед собой, идущий и идущий мимо просящих на доброе дело, уходящий к своей черной кассирше, – он сказал ей ужасные слова в момент разрыва. Он сказал, что жизнь с ней была для него мучением. Что он терпел ее только из-за детей. И что он сделает все возможное, чтобы суд отдал детей ему.
Адвокат заверил ее, что это не пустая угроза. Муж-5-1 имеет связи в судейском мире. Если только он сумеет доказать, что она была психически неустойчива, уводила детей прочь из реального опробованного мира (вспомнить месяц среди нудистов!), травмировала их слабые, распираемые любопытством сердца, то судья может по знакомству вынести решение в его пользу.
– Это безумие! – твердила Джил, обнимая Антона в полумраке фанерной кабинки, которую они сняли на берегу небольшого озерка. – То, что мы делаем, – чистое безумие. Рано или поздно мы попадемся. Бабочки летают у меня в животе. Полный живот бабочек страха.
Поездки в кабинку обставлялись шпионскими предосторожностями. Ее машина не должна была появляться поблизости ни при каких обстоятельствах. Они сговаривались о месте и времени, звоня из одного платного телефона в другой («Да-да, он способен нанять частного сыщика для подслушивания домашней линии!»). Приезжали на стоянку около большого магазина (каждый раз – нового), она надевала темные очки, повязывала косынку, шла не спеша к его машине, не спеша открывала дверцу, проскальзывала внутрь и укладывалась бочком на заднее сиденье, где он запасал для нее подушку. Ведь город полон знакомых – заметят ее голову в машине и донесут! Ехать им было около часу, так что иногда она даже ухитрялась заснуть, и он потом целовал отпечатки наволочки на ее щеке.
В тот день, когда он явился хромающим, она просто расцвела. Она догнала его на тропе, поднимавшейся к кабинке, отняла бумажный мешок с провизией, велела опираться на нее. Она усадила его на стул, завернула штанину. Она заставила его подержать распухшую лодыжку в воде со льдом. Лицо ее сияло. Вытирая ему ногу, накладывая тугую повязку, сделанную из шпионской косынки, она несколько раз прижалась лбом к его колену.
Дальше скрывать эту слабость было бесполезно. Она созналась. Да, она обожает лечить. До дрожи, до самозабвения. У нее есть диплом медсестры. И она работала медсестрой почти два года. Это было ее настоящим призванием. Ничего в жизни она так не любила. Но очень вскоре у нее открылась одна черта, одна фобия, которую она так и не смогла преодолеть. Она стала бояться, что пациент умрет по ее вине. То есть она могла сделать все правильно, пункт за пунктом выполнить предписания врача, сверяясь на всякий случай с учебником, но человек все равно умирал. Просто потому, что он был слишком стар, или болезнь зашла так далеко, или рана была слишком глубокой. Это случалось не очень часто, но страх все равно душил ее. Непоправимость смерти сбивала с толку, бросала лицом к стене. И не было ни одной больницы, в которой лечили бы только неопасные болезни, от которых никто бы не умирал.
Она попробовала выбивать клин клином – поступила на работу в дом для престарелых. Там смерть была нормальным и единственным исходом, почти избавлением. Никто не мог быть виновен в ней, никто из остающихся в живых от нее не страдал. Старики, завернутые в свою пергаментную кожу, тихо сидели в креслах, послушно открывали рот подносимой ложке, смотрели восковыми глазами на принесенные родственниками подарки. Они были как пассажиры отходящего поезда, со всеми уже простившиеся, уезжающие в невозвратные дали, сжимая в руке билет в один конец. Директор дома иногда давал подработать начинающим музыкантам, и те устраивали концерты для стариков, собранных в общей столовой. Бравурные звуки аккордеона отскакивали от неподвижных лиц. Джил не выдерживала и выходила из зала.
Все несложные процедуры, которые ей надо было проделывать со стариками, казались ей бессмысленными. Радостный сюрприз выздоровления был изъят из процесса – а без него лечение не приносило ей никакого удовлетворения. Лечить же живых после того, как она провела целый год рядом с мертвыми, стало ей еще страшнее. Да и с появлением второго ребенка на работу не оставалось времени. Пришлось уйти.
Теперь для удовлетворения лечебной страсти у нее оставалась только семья. Заслышав где-то в недрах дома кашель или чихание, она неслась на звук, как десантник, поднятый по тревоге, на ходу подхватывая нужные прыскалки, таблетки, полоскания. Волдыри, оставленные на коже ядовитым плющом, наполняли ее таким боевым азартом, что пострадавший должен был покориться и безропотно менять повязки с разными мазями, замешанными ею самой по знахарским книгам. Если у детей случался запор, они терпели до предела, не сознавались, зная, что мать никогда не ограничится простым слабительным. Мозоль на пятке или на пальце была чревата сеансами ультрафиолетового облучения. Друзья никогда не спрашивали, что ей подарить, – знали, что любой новый медицинский справочник вызовет искренний, на недели растянутый восторг. Антон слушал ее признания с умилением и сочувствием, но главного все же не понимал. Почему нужно было бояться смерти пациента? Больные бывают такие коварные, умеют проскользнуть на тот свет сквозь любые лечебные препоны. И ведь всякая больница имеет страховку против подобных случайностей. Через выстроенную здесь китайскую стену Горемыкалу перелезть было почти невозможно. Заделывать очередные бреши – вот чем надо было заниматься в первую очередь.
Читать дальше