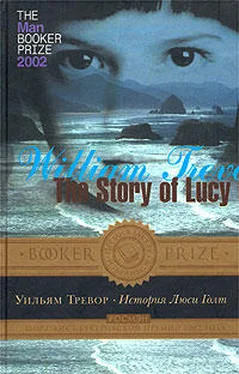В самом Лахардане, в отличие от всего остального мира, события, происшедшие с той ночи, когда он смотрел сквозь винтовочный прицел из окна во втором этаже на три темные фигуры внизу, так и не успели стать частью общей хроники. Их так и не сумели аккуратно сложить вместе, для удобства пересказа; ни порядка, ни общего смысла в них не было с самого начала, такими они и остались в людской памяти. И даже потрясение, вызванное приездом капитана и новостью о его вдовстве, не подвело под ними вполне логической, казалось бы, черты. В воздухе Лахардана по-прежнему витали смятение и, если принюхаться, запахи капитановых сигарок и виски, которое он откупоривал бутылку за бутылкой. Бриджит и Хенри обратили внимание на то, что голос у него с годами стал более низким. Его шаги на лестнице были не то чтобы шагами незнакомца, но близко к тому; когда в саду на веревке сушились его сорочки, они казались на удивление неуместными.
Капитан и сам постоянно пребывал в состоянии замешательства, а изредка и вовсе ловил себя на том, что не верит в происходящее. А может быть, он просто спит и видит какой-то удивительно длинный сон об ожившей дочери; его прежние представления о ситуации в доме и вокруг него были куда более достоверными, чем то, что он видел воочию. В присутствии дочери ему всякий раз хотелось взять ее за руку, хотелось, чтобы она опять превратилась в маленькую девочку, как если бы это прикосновение могло каким-то образом вернуть ему все, что он потерял. Но всякий раз он себя одергивал.
– Лахардан твой, – настаивал он, в очередной раз подавив в себе желание взять ее за руку, и чувствовал себя очень неловко, но паузы получались еще более неловкими, и нужно было сказать хоть что-то. – Я здесь у тебя в гостях.
Она принималась шумно возражать, но то были слова, не более. По крайней мере, он мог дать ей почувствовать, что ей простили ту давнюю детскую глупость, и не только от своего лица, но и от лица ее покойной матери. Неужели они не простили бы собственную дочь за этакий детский проступок, о чем тут говорить, и часа бы не прошло, как вся эта история канула бы в прошлое: он сказал ей об этом просто и прямо. А вот сами они действительно виноваты, что столько времени упрямо не желали обращать внимание на вполне понятные детские страхи.
Но сколько бы капитан ни каялся, он не мог не чувствовать, что сказанного все равно мало. Долгие годы самобичевания не прошли для дочери даром: они и сами по себе были – немалая тяжесть и легли ей на душу как холодный туман. По крайней мере, так ему казалось.
Они сидели вдвоем, разделенные длинным обеденным столом, ибо именно здесь по большей части им и случалось поговорить друг с другом, хотя примерно в половине случаев они и за столом умудрялись не обменяться ни словом. Всякий раз капитан обращал внимание на то, как тонкий указательный палец дочери вычерчивает на полированном красном дереве какие-то узоры, которые по одним только движениям пальца он разобрать не мог. Когда молчание становилось совсем уж неприличным, она порой рассказывала ему о том, что сделала за день, или о том, что собирается сделать, если до вечера было еще далеко. Нужно было вынимать из ульев соты, а еще она выращивала цветы.
* * *
Со временем новости дошли и до Ральфа.
Со дня его свадьбы прошло уже больше года, но, случись она вчера, разницы не было бы ровным счетом никакой. Жену его она представляла себе не совсем верно: та была высокой и кареглазой, с туго зачесанными назад темными волосами, и как раз сейчас, после первых родов, начала обретать привычную стройность фигуры. Случилось так, что она действительно была неглупа и наклонна к порядку: молодые побеги и в самом деле строжайшим образом выстригались, чтобы не застить свет в окнах заросшего вьюнками дома, который после свадьбы целиком отошел к Ральфу: родители давно уже поняли, что старый дом великоват для его постоянно хворающей матери, выстроили рядом небольшой одноэтажный домик с верандой и теперь окончательно туда перебрались.
Ральф узнал о возвращении капитана Голта в понедельник утром, ближе к полудню. Несколько лет назад он выяснил, что водитель одного из грузовиков, которые заезжали на лесопилку за грузом строительного леса, родом из Килорана и переписывается со своими тамошними сестрами. Килоран был общей темой, и Ральф часто переводил разговор на дом над обрывом, хотя о собственной связи с этим домом не упомянул ни разу. Стоило речи зайти о чем-то, касающемся Люси Голт, на него всякий раз нападала странная тяга к скрытности. Он хранил эту тайну все шесть лет, проведенные в армии, ни разу не проговорившись о том, что к тому времени казалось неизбежным: что они с Люси Голт никогда не поженятся. Найдя себе вместо нее другую женщину, он и с ней ни слова не сказал о Люси или о том времени, которое когда-то провел в Лахардане, – обстоятельство, которое никоим образом не означало отсутствия любви в этом браке или того, что Ральф просто согласился на замену оптимального варианта другим, следующим по качеству.
Читать дальше