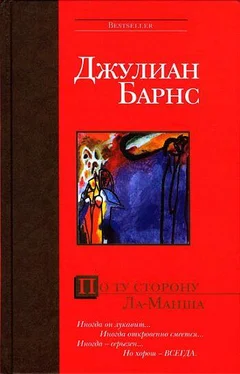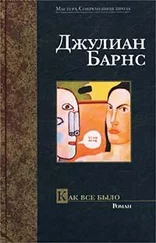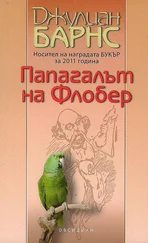К их возвращению обед будет накрыт под полотняным навесом на террасе, и Добсон будет неуклюже стоять за стулом леди Линдсей. По мнению генерала, молодчик менял свои ипостаси с немалой сноровкой: крикетист, садовник, пехотинец, а теперь мажордом, камердинер и главный фуражир. Самая неожиданность их импровизированного ménage, [57] хозяйство (фр.).
естественно, способствовала отступлениям от этикета, о каких в Несфилде и речи быть не могло бы; и все же генерала удивило, что его взгляды, когда он обращался к своей возлюбленной Эвелине, все чаще устремлялись мимо ее чепца на Добсона, стоящего позади нее. По временам он, черт побери, ловил себя на том, что обращается к Добсону, словно приглашая его присоединиться к разговору. К счастью, молодчик был достаточно выдрессирован и в таких случаях отводил глаза, а к тому же знал, как изобразить надлежащую глухоту. Что до Эвелины, то она относилась к таким нарушениям правил хорошего тона ее мужем как всего лишь к чудачествам, объясняемым его долгим изгнанием и отсутствием собеседников. И действительно, она нашла его очень изменившимся, когда приехала сюда три года назад: он обрел дородность — несомненно, из-за вредной пищи, — но, кроме того, стал вялым и истомленным. Она не сомневалась в радости, с какой он ее встретил, но обнаружила, что мысли его были обращены только в прошлое. Было естественно, что он так сосредоточен на Англии, но Англия должна была знаменовать и будущее. И она призывала его надеяться, что в один прекрасный день они, конечно же, вернутся. До них доходили удручающие слухи, что Буонапарте не очень хочет возвращения генерала де Розана в ряды его высшего командования; и, разумеется, пресловутая кротость француза, с какой он допустил, чтобы сэр Джон Стюарт взял его в плен при Майде, не могла прийтись по вкусу никакому главнокомандующему. Но такими слухами следовало пренебрегать, считала она. Однако в мыслях генерала Англия, казалось, была только прошлым, и с этим прошлым Добсон связывал его не меньше, чем жена.
— Эти канониры, моя дорогая. Если бы их меткость хотя бы вполовину равнялась меткости Глыбы Стивенса, они не потратили бы столько ядер.
— Да-да, Гамильтон.
Глыба, когда упражнялся в ударах, мог попасть в положенное на землю перо один раз из четырех. И даже больше. Благодаря ему Танкервиль выиграл пари в Чертси. Глыба был садовником графа. Сколько их теперь упокоилось в земле?
— Дорсет так и не стал прежним, — продолжал он, доедая остатки котлеты на краю тарелки. — Заперся в Ноуле и никого не принимал. — Сэр Гамильтон знал из верных источников, что герцог закрылся в своей комнате, как анахорет, и единственным его удовольствием было слушать приглушенную игру скрипок по ту сторону двери.
— Я слышала, что меланхолия была семейной чертой.
— Дорсет всегда был живчиком, — ответил генерал. — Прежде.
Это было правдой, и сначала он оставался таким после возвращения из Франции. В ту осень крикет занимал свое обычное место. Но по мере того как в Ноул прибывали émigrés, [58] эмигранты (фр.).
положение во Франции омрачало рассудок Дорсета черной тучей. Был обмен письмами с миссис Бурбон, и многие считали утрату этой близости непосредственной причиной его меланхолии. Повторяли, и не всегда с симпатией, что, покидая Париж, герцог преподнес миссис Бурбон свою крикетную биту и что указанная дама хранила этот атрибут английской мужественности в своем шкафу, как некогда Дидона повесила панталоны покинувшего ее Энея. Генерал не знал подробностей этого слуха. Он знал только, что Дорсет продолжал играть в крикет в Севеноксе до конца сезона 1791 года — того самого лета, когда миссис Бурбон и ее супруг предприняли свое бегство в Варенн, их схватили, и Дорсет оставил крикет навсегда. Вот и все, что мог бы сказать генерал помимо того, что Дорсет, сведя грохот мира к приглушенной музыке скрипок за деревянной дверью, не дожил до чудовищной новости о 16 октября 1793 года.
Богу известно, что он не папист, но канониры и фузилеры революционной армии не были протестантскими фузилерами. Они забирали распятия с полей и устраивали из них ауто-да-фе. Они водили по улицам ослов и мулов в облачениях епископов. Они сжигали молитвенники и катехизисы. Они принуждали священников к браку и приказывали французским мужчинам и французским женщинам плевать на изображения Христа. Они бросались с ножами на алтарные покровы и с молотками на головы святых. Они снимали колокола, отвозили их в литейни, где их переплавляли в ядра, чтобы громить еще не тронутые церкви. Они истребили христианство в стране, и какова же была их награда? Буонапарте.
Читать дальше