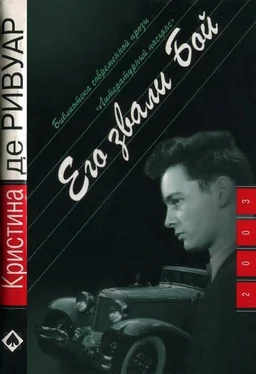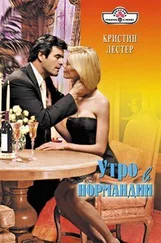Мне хорошо в маминой ванной, покойно, вот почему я не захотела поселиться в комнате на этаже прислуги. В темноте поблескивают ванна и умывальник, приятно пахнет ванильным тальком, я сплю на раскладушке, мне так больше нравится, пружинки поскрипывают, как качели, а столиком мне служит тумбочка, на которой мама расставляет флаконы с серебряными пробочками. Лаванда, розовая вода «Ботто», а на случай, если с утра неважный вид или припухлости — бутылочка с сиропом «Винардон» (вкусный необыкновенно, я всегда облизываю ложку), пиренейский бальзам в глиняном горшочке и с металлической крышкой, флакон «Понде Экстракта» с желтой, как сама жидкость, этикеткой. Мама делает ею примочки, завернет в платок монетку, потом смочит ее и трет, трет, пока припухлость на лбу не исчезнет совсем. Мне нравится почти как запах талька этот сильный, терпкий и резкий запах «Понде Экстракта». Я готова нарочно упасть и удариться, только бы мне приложили монетку в платочке.
Иногда я просыпаюсь, открываю глаза и вижу маму в дверях ванной. Чтобы не разбудить меня (она говорит, детский сон — святое дело), она не зажигает ни верхний свет, ни лампочку над умывальником, а входит со свечой в медном подсвечнике, это так красиво, и я не отрываясь смотрю на нее. На маме ночная рубашка из тонкого белого батиста с прямоугольным вырезом, широкие рукава, лиф весь в кружевах. Волосы распущены и достигают середины спины, при мерцании свечи у них необычный цвет. Днем, когда они собраны в пучок, мама темная шатенка. А ночью — все иначе, ночью волосы у нее золотистые. И вьются кольцами, как у ангелочков на картинках, какие дарят по случаю первого причастия. Войдя в ванную, она устанавливает подсвечник на столике между зеркалом и умывальником, берет стакан из белого опалового стекла и подносит его под кран, откуда течет холодная вода. Я очень люблю этот стакан, его подарил маме дядя Бой, на нем написано круглым почерком слово «Любовь». Вода наполняет стакан «Любовь». Когда мама пьет, мне кажется, что огонек свечи переливается на стене ванной. Мама запрокидывает голову, ее волосы, похожие на волосы святой, красиво ниспадают, и горло подрагивает от каждого глотка воды. Кончив пить, она вытирает рот льняным полотенцем. Обычно, попив, она возвращается в спальню, но иногда, будто кто-то зовет ее из глубины зеркала, она приближает лицо к стеклу, смотрит в него. Вдруг обеими руками закрывает щеки и рот, получается что-то вроде маски, видны только глаза, помрачневшие и грустные, такие грустные, что у меня сжимается сердце. Через какое-то время, мне оно кажется очень долгим, она медленно проводит руками по щекам, как бы желая стереть то, что увидела, грусть или страх? Что пугает ее там, в глубине зеркала? Мне всегда хочется вскочить и подбежать к ней, когда у нее такие глаза, такие жесты, такое лицо, но я удерживаюсь. Она сама подходит к моей кровати. Щупает мне затылок, виски, иногда что-нибудь спрашивает. Ты спишь? Тебе не жарко? Я не отвечаю, а то ведь с ней никогда не знаешь, что получится. Если хоть раз отвечу, что не сплю, она будет винить себя. Я тебя разбудила, я виновата, теперь я не буду вставать ночью, чтобы попить. И я не смогу больше видеть эту картину: маму в ночной рубашке, с волосами, золотистыми от пламени свечи, и воду, которая льется в стакан «Любовь». Никогда не увижу и это выражение страха на ее лице, нет, не хочу, не хочу. Я хочу видеть его отражение в зеркале ванной. Хотя мне и неизвестна причина этого ее страха, я все равно хочу ловить его отражение в зеркале ванной. Я знаю, что когда-нибудь ночью и мне станет страшно, и я встану попить воды, когда-нибудь ночью, но когда?
Который час? Два? Теперь уже скоро. Мы принялись ждать его сразу после ужина. Гранэ сказала: ах, если бы он порадовал меня и приехал до полуночи. Мы не остались сидеть в гостиной, а прошли на террасу, Гранэ, мама, тетя Кати и я. Мы сидели там на страже, было тепло, когда ждут, всегда тепло. Гранэ поставила свое плетеное кресло поближе к изгороди из кустов бересклета, она вязала носочки для одной из внучек, я уж и не помню, для которой, три железные спицы, тонкая белая шерсть, дело продвигалось медленно, полноска так и осталось к концу вечера всего лишь половинкой носка. И вышивание у тети Кати тоже не шло. Вышивает она трехцветный бант, и все эти серо-гранатово-розовые волнистые завитки должны будут украсить спинку стульчика у камина (надо же, в разгар лета, на берегу моря заниматься каминным стульчиком!). Обычно она вышивает быстро, тетя Кати, крик-крак, крик-крак, иголка протыкает ткань (я раньше думала, что она втыкается во что-то живое, поскольку между «крик» и «крак» слышался еще какой-то вздох или стон). Но в тот вечер игла почти все время оставалась воткнутой в канву, а ножницы то и дело падали на пол террасы: как и все, тетя Кати думала только о возвращении дяди Боя. Хотя от этого ее отношение ко мне лучше не стало. Каждый раз, когда ножницы падали, она говорила: Хильдегарда, ножницы. Нет чтобы сказать: Хильдегарда, пожалуйста. Или: Хильдегарда, подними ножницы. Хильдегарда, ножницы — и все тут, а когда наступила ночь, она сказала: принеси фонарь. Я послушно пошла на кухню, попросила фонарь, Сюзон зажгла его, я принесла и поставила на садовый столик возле корзинки с вязаньем и с разложенными для игры в фараон картами. Тетя Кати не сказала спасибо, она никогда не говорит мне спасибо, она все больше меня ненавидит. Когда я говорю об этом маме, мама отвечает:
Читать дальше