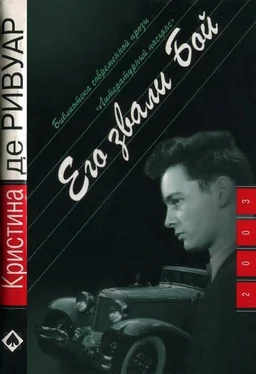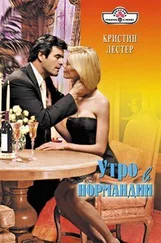— Женщины — это так противно, отовсюду течет. И еще цепляются за тебя. Отчего мой отец умер, как ты думаешь?
— Не знаю. Откуда ж мне знать?
— Он умер нарочно. Чтобы сбежать от этих двух зануд: бабки Горищёк и мамаши Антураж.
— Кто тебе сказал?
— Я. Я это знаю, говорю тебе. И если ты мне наскучишь, я умру, слышишь? Умру от скуки.
Он сказал мне тогда: мне не хочется страшных вещей с тобой, это будет грязно и глупо. И еще сказал.
— Ты становишься нечистой. Нечистота — это убийственно. И пошло.
— Пошло?
— Да, пошло! Ты становишься пошлой, Нина.
Он решил (еще прошлым летом), что его тело ему не нравится, а когда он думал о том, что происходит под его кожей, во внутренностях, о процессе кровообращения и пищеварения, то морщился от отвращения. Спрашивал: зачем нужны пять чувств? Мне бы одного было достаточно, максимум двух: слуха, чтобы слушать дрозда, и носа, чтобы нюхать магнолии. Ему не нравилось возвращение времен года, особенно весны: вся эта зелень — это нездорово, цвет гноя. Нарочно, он сделал это нарочно. Чтобы помучить меня. А мне было бы приятно увидеть, как он вернется героем, я в конце концов рукоплескала бы его историям, говорила бы: расскажи мне еще, как. И как и как. Каждый раз менялась бы какая-нибудь деталь, а я бы это замечала и смеялась. Ну, выдумщик, сочинитель сочинял. Он смеялся бы вместе со мной. Свинья ты этакая, все труды насмарку пошли! Я бы гордилась, если бы он обозвал меня шлюхой и сам остриг бы меня в общественном месте в Наре. Мои волосы упали бы, словно мертвая осока, я бы не протестовала и даже поблагодарила бы. Он бы крикнул: потаскуха, грязная потаскуха, валявшаяся с немцем, пока я воевал! А я бы прошептала, только так, чтобы слышал он один:
— Ревнуешь, а? Признайся, что ревнуешь…
Он говорил: ревнивцы сильно пахнут, я их ненавижу. Он говорил, что страх тоже сильно пахнет. Но однажды в Розе, в погребе, ставшем тиром, он встал спиной к стене, раскинув руки крестом.
— Выстрели в меня, Нина!
— Дурак! Даже ради шутки…
— Тогда кинь кинжал… Ты хорошо кидаешь.
— Сволочь! Раньше ты говорил, что станешь ворчливым утопленником.
— Это правда, я был бы ворчливым утопленником, но ты только попытайся пронзить мне сердце — я буду шикарен.
Он умер. Избавился ото всего, что ему мешало: от своего тела, от страха, от времен года, от своей матери и бабки. Может быть, и от меня. И от Венсана Бушара. Я уверена, что он больше не мог выносить этого шута. Два года на войне еще куда ни шло. Но два года на войне с сыном Бушара, его властная участливость, его бахвальство — кто это вынесет? Если только не… Если. В таком случае он умер от стыда. Жан часто говорил: стыд — это самый прекрасный подарок, какой можно сделать Господу. После можно только застрелиться. И он дал себя пристрелить какому-нибудь немцу, настоящему убийце или просто растяпе. Я бегу. Скоро я буду в Наре. Я никого не увижу, предоставлю им плакать на веранде — Хрум-Хрум и Горищёк. Я не хочу встретить Венсана Бушара, и все же я знаю, что он спрашивал про меня. А где кузина? Он хочет сам меня известить. Помучить.
— Как, вы разве не знаете? О Жане?
Он явился, как охотничья собака, привыкшая приносить окровавленную дичь во рту. Возможно, ему даже поднесли стакан «Тюрсана», за вином легче рассказывать. Он выдумывает, расписывает. Креветки причитают. Я проскользну, как тень, не стану искать отца, он больше ничем не рискует: окровавленное лицо из моих снов принадлежало не ему. Я пойду прямо к себе в комнату и спокойно, как можно спокойнее, вспорю ножом матрас. Достану пистолет из шерстяного гнездышка и заряжу его. Небо будет тяжелым, стального цвета, я шагом вернусь в Пиньон-Блан. И убью наездника. Только бы Сваре на этот раз не удалось его спасти.
Онес — Париж Январь 1967 — январь 1968 Перевод Е. В. Колодочкиной
Матери моей, которая вечно со мной,
и Мари Лакост
Смерть — это отделение души от тела. Так сказано в катехизисе. Но это не совсем так. Как будто в момент смерти все происходит тихо, мирно, спокойно и по справедливости. Справа — душа. Слева — тело. И то и другое цело и невредимо, все довольны, делают друг другу ручкой: адье, душа, гуд бай, материя. А Господь, со своего заоблачного балкона, это разделение благословляет. Одним словом — идиллия. Но я-то знаю, что все происходит не так. Со смертью тело разрушается, а душа — нет. Почему? Это несправедливо. Мне двенадцать с половиной лет. С восьмилетнего возраста я прошу Господа сделать для меня исключение, говорю ему: милый Господи (я часто его так называю, милый Господи, в надежде, что, польщенный, он прислушается к моему голосу и будет более снисходителен), итак, я говорю ему: милый Господи, сделай для меня исключение. Раз ты всемогущ, забери мою душу, а тело пусть сохранится, я не хочу превращаться в прах, в пыль, «прах» — слово, конечно, красивое, но мне все-таки скорее хотелось бы остаться телом, с моей кожей, костями, ногами. Без души я смогу обойтись, Господи, лиши меня сознания, воспоминаний, воображения, отними речь, но только оставь чувства. С самого начала каникул я каждый день тренируюсь в потере души, я ей говорю: уходи, уйди из своей телесной оболочки, я ложусь на живот на песке пляжа Андай и провожу проверку всех частей моего тела, с головы до ног, прислушиваюсь к их разным голосам; вот сад кровеносной системы, вот узелки нервов во всех уголках, мускулы. Я даже песенку сочинила и про себя ее напеваю: «Милое тело, ты всего лишь тело, тело, тело». Потом я иду купаться в море, плаваю, лежу на спине, ныряю, обожаю нырять, десять, двадцать раз подряд, все быстрей, быстрей, у меня не хватает дыхания, это меня воодушевляет, и я торжественно произношу: Боже мой, предаю тебе дух мой. И я представляю себе, как руки Господа опускаются в море, только одни кисти, сверкающие, словно алмазы. Они берут мою душу, и она тает, как комок снега, а я остаюсь только телом, загорелым, длинным-длинным телом в ласковой воде. Я радуюсь, и я была бы даже счастлива, если бы дядя Бой не уехал в Америку.
Читать дальше