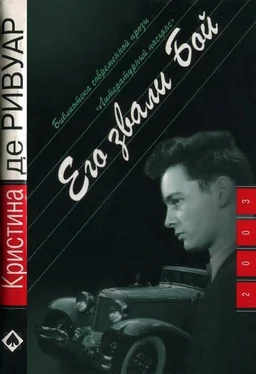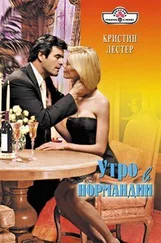Иногда я просыпаюсь ночью и говорю себе, что где-то далеко, очень далеко происходят ужасные вещи, но какие? В сентябре 1939 года Жан заставил меня просмотреть один за другим альбомы, сложенные на этажерке на веранде; там были фотографии времен первой войны — Верден, траншеи, Марна и все такое. На каждой странице сидят, сжавшись в комок, люди, будто ждут, что на них сейчас рухнет небо.
— Жан, ты думаешь, на этот раз будет то же самое?
Он рассказал мне об эвакуации. Бывшие однокашники писали ему из Бордо; каждый из них приютил какую-нибудь жертву войны, выслушал свою долю рассказов об ужасах, пережил кошмар, в котором были сошедшие с ума дети, взбесившиеся собаки, мертвецы, брошенные под деревом, матрасы на повозках, клетки на тачках, лошади, умершие от голода и жажды. Я лупила кулаками в стену, кричала: перестань, выброси эти письма, я больше не хочу об этом слушать. Нара дрейфовала в подозрительном мире, в стороне от остального света. Ждали беженцев из Парижа, а еще — с севера от Луары, но их не было. А потом вдруг объявились немцы. Мы сидели за столом, Мелани вошла в столовую с горящими щеками. Они здесь, мадам, они здесь, их видели на дороге в Бордо, перед самым Рокасом. Бабуля положила нож и вилку на тарелку, закрыла глаза и сложила руки-колбаски. Господи, помоги. Папа сказал: «Ты позволишь?» и вышел из-за стола. С таким видом, будто его мучит удушье, он потащил меня в свою комнату, к портрету мамы на коне. Проси ее защитить нас. Я сказала: «Мама, защити нас». Я смотрела в лицо всадницы в канотье, ожидая сама не знаю чего, какого-то знака, который бы она нам подала; помню, по фотографии запрыгали блики, но в этом не было никакого чуда, просто солнечный зайчик, и выражение лица наездницы не изменилось, осталось таким же замкнутым, недоверчивым. Тогда я ринулась в конюшню. В моем воображении теснились картины лошадей со вспоротыми животами, умирающих от жажды, с высунутым языком, я рухнула на солому. Помню, как Ураган деликатно дотронулся копытом до моего плеча; Свара легла рядом; их тепло ободрило меня, я побежала к Жану, он лежал ничком на кровати. Нина, меня сейчас вырвет. Я заставила его смочить голову холодной водой. Пошли, я хочу сейчас же увидеть, какие они, фрицы.
— Нет, это скоты, они нас отдубасят.
— Да мы спрячемся, пошли.
— Нет.
В конце концов он все-таки меня послушал. Спрятавшись, с позволения мсье Дурта, за изгородью его сада из лавровых деревьев, бересклета и бамбука, мы увидели своих победителей — они не выступали строевым шагом. Не было ни труб, ни барабанов, только автомобили, мотоциклы с колясками, проехавшие через весь поселок без всякого форса. Упряжные лошади не выглядели усталыми, они были тяжелые, сильные, с лоснящимися боками. Колонна шла быстро и рассеялась в два счета. Солдаты и офицеры выходили из машин у каждого большого дома: в кафе Бернеда, у мясника, у мэра, мсье Дармайяка. Когда они подъехали к мсье Дурту, мы помчались домой. Ну, как они тебе? Страшные?
— О нет, — сказал Жан с облегчением, — вовсе не страшные, они для этого слишком бесцветные, это чинуши, нас завоевали чинуши.
Мне они показались прежде всего неэлегантными. Этот зеленый цвет, эти сапоги из уродливой кожи, эти дурацкие фуражки, эти каски, похожие на перевернутые котелки. Да, чинуши, но переодетые. У первого полковника, поселившегося у бабули, была негнущаяся шея, бритый череп и длиннющее имя с кучей «фонов». Его лейтенант играл на свирели. Принимал их папа, он и показал им дом. Вечером он крепко обнял меня. Мне стыдно, Нина.
— Замолчи, папа.
Лошади от оккупации не пострадали. Первый полковник их не трогал, его офицеры у нас не жили, у них были собственные лошади — тучные полукровки, кажется, из Ганновера. Для меня это все равно, что с Камчатки. (Предпочитаю оставаться в неведении относительно всего, что касается немцев. Леность и предубеждение. Пока я ничего о них не знаю, они как будто остаются теми, кто они есть: временными постояльцами, едва ли доставляющими хлопоты.) И следующий полковник, нынешний, прозванный Воскоруким, тоже бы наверняка вел себя так же сговорчиво, если бы наездник не имел дерзость… о, разве я могу плохо отзываться о наезднике?
Он там, позади меня, я упражняюсь с лошадьми в манеже Марота. Утро бело-голубое, цвета промокашки, — мне кажется, это цвет сотворения мира. Прошлой осенью кряжистые дубы лишились своего плюща, стволы гладкие, горячего шоколадного цвета, ветви — серо-зеленого, из-за мха. Между ушами Свары дрожит предвесенний свет; только что, между сосен, она прянула в сторону — просто так, шутки ради, а заодно, полагаю, поздороваться со смолокуром, прилаживавшим первые скобы на деревья; в долине Фу она ухватила полный рот ореховых сережек и бесконечно их жевала; с ее бархатной губы стекала зеленая пена, я уверена, что каждый раз, как мы проезжали мимо поля, справа от манежа, ее взгляд задерживался на аппетитном ковре проросшей ржи. Мы едем рысцой вдоль барьера, я прислушиваюсь к телу моей кобылы, так нераздельно слившемуся с моим; правый повод, левая нога, мы переходим на галоп, у меня такое впечатление, будто я могу потребовать от нее все что угодно — полувольт, мягкую смену ноги. Я становлюсь ею. Она становится мной.
Читать дальше