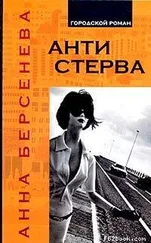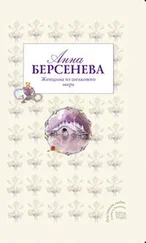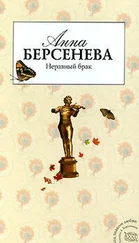Отец ничего не ответил.
Они шли по Интернациональной, прежней Дворянской, улице. Таня хотела показать ее отцу, потому что дома здесь были один другого краше. Особенно здание железнодорожной больницы с угловым трехгранным эркером ей нравилось – оно было выстроено в стиле модерн, однако с разностильными окнами.
Но за разговором они забыли об архитектуре.
– Папа, – спросила Таня, – а почему ты все-таки решил вернуться из Парижа в Москву? Только из-за немцев?
Отец еще немного помолчал.
– Не только, – наконец ответил он. – Хотя это, конечно, было главным. Я понимал, что немцы начнут войну и победят в Европе, и точно так же понимал, что они не победят в России. А жить при фашизме я не хотел все же больше, чем при коммунизме, следовательно, оставалось только вернуться в Россию, хотя я не питал на ее счет никаких иллюзий.
Он снова замолчал.
– А почему еще? – не вытерпев, спросила Таня.
– Потому что меня стали настоятельно втягивать в деятельность, которая мне была чужда, – нехотя ответил он. – Я ведь и вообще не слишком общителен, а истерический патриотизм с нехорошим душком… Как-то мама вытащила меня в гости к Юрьевым – может быть, ты их помнишь, они на рю Бонапарт жили.
– Да, – кивнула Таня. – У них кот был очень красивый, белый с голубыми глазами. Звали Ужас.
– Кота не помню, а люди у них собирались сомнительные. В частности, в тот вечер был Сергей Яковлевич Эфрон, супруг Цветаевой, поэтессы. Человек он, по моим наблюдениям, совершенно никчемный, даже трогательный в этом смысле. Однако при всей своей никчемности участвовал в белом движении, из Крыма ушел с армией Врангеля. И весьма он страстно в тот вечер доказывал, что все мы, дескать, должны теперь кровью искупить свою вину перед родиной. Слышать это мне было отвратительно. Во-первых, я никакой вины перед родиной не чувствую. Во-вторых, я врач, а не солдат, и понятие о крови у меня медицинское. А в-главных, если уж кто-то считает это нужным, то искупать вину следует своей кровью, а не чужой. Так я и сказал господину Эфрону, и, как вскоре выяснилось, не ошибся: он оказался агентом ГПУ, занимался политическими убийствами. И не он один ко мне подкатывался с сомнительными предложениями…
И снова отец замолчал.
– Ты жалеешь, что вернулся в Россию? – спросила Таня. – Скажи мне, папа! Я же чувствую, ты недоговариваешь.
– Я попал в ловушку, – сказал он.
Таня ушам своим не поверила: в отцовском голосе прозвучала не то что подавленность даже, а безысходная тоска. Она и представить не могла, что его голос может вот так вот звучать!
– В какую ловушку? – растерянно проговорила она. – Где?
– Здесь, в России. И самое ужасное, что я завлек в нее вас. Маму и тебя.
– Я не понимаю…
– В тридцать восьмом году я поступил прямым и самым, как мне тогда казалось, правильным образом: пошел в советское посольство в Париже, сказал, что я врач и что хочу вернуться с семьей в Москву. Они, разумеется, навели обо мне справки и через месяц сообщили, что можно прийти за советскими паспортами. Наверное, рассуждал я тогда, они там выяснили, что врач я толковый, и решили, что таковые требуются при любой власти, потому что при любой власти люди имеют свойство болеть. Отвратительная наивность, непростительная! Что я за нее поплачусь безусловно, это, может, и справедливо. Но вы!..
Таня все равно не понимала, что он имеет в виду. Впервые в жизни ей казалось, что отец говорит непонятно. Наверное, он заметил недоумение в ее взгляде.
– Незадолго до войны мне настоятельно предложили вернуться обратно во Францию, – сказал отец. – Только уже в другом качестве – секретного агента. Вернуться, наладить общение с прежними знакомыми, завести новых и регулярно посылать на них доносы в ГПУ. Вероятно, с дипломатической почтой, – зло усмехнулся он. – А также выполнять другие задания этой миролюбивой конторы. Вот так. Похоже, коготок увяз – всей птичке пропасть.
– Но как же, папа?.. – испуганно проговорила Таня. – Что же ты будешь делать?
– Не волнуйся, Танечка. – Испуг ее он тоже заметил сразу, как и недоумение. – Ничего подобного я делать, конечно, не собираюсь.
– Но они же тебя арестуют!
Он помолчал, потом нехотя сказал:
– Пока что их требования отодвинуты войной. Это лишь отсрочка, я понимаю. Но все-таки надеюсь… Не знаю, на что я надеюсь, – с горечью произнес он.
Таня тоже понимала, что надеяться в этой ситуации можно разве только на чудо.
– Я поэтому и хотел тебя видеть, – сказал отец. – Конечно, я и просто хотел тебя видеть, но в большой степени поэтому. С мамой я все-таки надеюсь увидеться тоже – может быть, ей удастся приехать ко мне в часть до того, как мы перейдем границу. Но что со мной будет дальше, Таня, трудно предугадать. И я тебя прошу: если вы… если у вас будет возможность принимать самостоятельные решения – прими их ты. Мама едва ли на это способна. В этом нет ее вины, – добавил он. – Она всегда надеялась на меня, и у нее просто не было необходимости решать что-либо самой. Мне страшно за нее. – В отцовском голосе прозвучала такая неизбывная тоска, что Таня вздрогнула. – Она совершенно беспомощна перед жизнью. Одним словом, я прошу тебя: если ты узнаешь, что я арестован, или ничего не будешь знать обо мне, немедленно уезжайте из Москвы, с их глаз подальше. Трудно сказать, панацея ли это, но все-таки хоть какая-то надежда. Уезжайте из Москвы. Ты поняла?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу