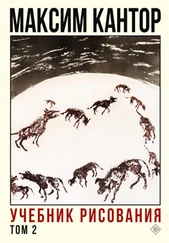Когда машина тронулась, ситуацию обсудили снова.
Какая галерея? Глупости не говори. Зачем галерея нужна? Художник ты, что ли? А если нет, что про галерею гонишь? Довезем до клиники, забашляем — и бумаг не надо. Дед, лечиться будешь? Ну, думал, в галерею заедем, посидим. Почему не поехать? Можно. Но уже потом: отдохнуть, погреться. Музыку включить? А ты чего слушаешь? Как что? «Эхо Москвы», конечно. Валяй.
Зажатый на заднем сиденье меж крепких потных тел, Рихтер впал в забытье — перестал следить за происходящим.
Так развивались события — и Струев не поспевал за их ходом. История (даже если то была не история в высшем смысле этого слова, а всего лишь цепь случайных неосознанных явлений) шла своим чередом — и вовсе не так, как это представлялось Семену Струеву, художнику-концептуалисту. Струев подъехал к жилищу Рихтеров уже тогда, когда Соломона Моисеевича Рихтера давно доставили в клинику, водворили в приемный покой, сунули дежурному врачу деньги, посмотрели на врача внимательно. Понимает ли врач? Или объяснить? Кажется, понимает.
III
Струев вошел в подъезд, поднялся в квартиру Рихтеров. Дверь была не заперта — он увидел беспорядок, поднял с пола окурок, потом прошел в кухню. Татьяна Ивановна была еще жива.
Татьяна Ивановна съехала со стула на руки Струеву. Он не удержал ее, тело стекло у него по рукам, и Татьяна Ивановна поползла на пол, мягко свернулась, ноги подогнулись к животу, и лицо ее сделалось вялым, белым и слабым. Струев смотрел, как она дышит; дышала она, едва приоткрывая серые тонкие губы. Серые губы одеревенели, почти не шевеля ими, она выговаривала слова. Иногда меж губ появлялся розовый пузырек — от внутреннего кровоизлияния. Пузырек покачивался на губах, потом лопался. Струев наклонился, чтобы слышать.
— Я ножик взяла, — сказала Татьяна Ивановна, — с розовой ручкой перламутровой. Паша подарил. Колбаску резать. Я хорошей колбаски купила. По два двадцать. Раньше по два двадцать была. Теперь по двести восемьдесят. Пугнуть хотела. Он моим же ножиком меня и пырнул. А я сама наточила. Как шило острый. А мне их пугнуть было надо. Их вон сколько. Ну, я ножиком.
— Понятно, — сказал Струев.
— Всегда сама. Все сама. Какой с него прок. Он и спорить не стал. Сказали ему: иди — он и пошел.
— Куда пошел?
— А куда велели. Привезли, потом увезли. Пришли, наследили. Соломон, он только со мной храбрый. У меня полы мытые. Я говорю, нечего грязь разводить. Ходят, пачкают.
Струев молчал, смотрел, как пузыриться кровь на губах Татьяны Ивановны. Вздулся пузырек, лопнул.
— Я им говорю, пошли вон. А не идут. Наглые. Пошел, говорю, вон, дурак.
— Правильно, — сказал Струев.
— Соломон — он себя защитить не может.
— Его увезли?
— Я сейчас. Поеду за ним. Больно. Заболела вот. Ты съезди за ним, Сенечка.
— Хорошо, — сказал Струев.
— В галерею повезли. К художникам. Он любит. Я говорю, гадость это. А он норовит к молодым.
— В галерею? — спросил Струев.
— К Сосковцу этому поганому.
— К Поставцу? — спросил Струев.
— Вот, к Сосковцу как раз повезли. Мало он украл. Теперь еще за мазню берет.
— Понятно, — сказал Струев.
— Есть такие. Им все — мало.
— Да, — подтвердил Струев, — есть такие.
— Нехорошо так. Без пальто, без беретки. Ты ему беретку отвези.
— Хорошо.
— Я говорю: как не совестно. На старика. И пугнуть хотела.
— Кто ударил? — спросил Струев из интереса.
— Усатый такой. Как сом усатый. Ударил меня, как Ласика. Мою лошадку так же запороли. В животик ножом — и запороли. Больно, Сенечка. Заболела я.
— А сколько их? — спросил Струев.
— Пятеро.
— Хорошо, — сказал Струев.
— И ботинок никто не снял. И ноги не вытер. Натоптали. Пять человек. Опять все мыть. А силы уже нет. В живот, как лошадку.
— Пятеро — это пустяки, — сказал Струев.
— Ты справишься, Сенечка?
— Ну конечно, — сказал Струев.
— Ты только себя побереги, Сенечка. Ты рисковый. Ты береги себя.
— Пятеро — это пустяки, — повторил Струев и улыбнулся, не разжимая губ, чтобы не пугать умирающую своим оскалом.
— Я тебе сейчас борщ согрею, — вдруг сказала Татьяна Ивановна, — в холодильнике осталась колбаска, ты съешь, вкусная, — и Струев понял, что она сейчас умрет.
— Хорошо, — сказал он.
— Боль легко терпеть, — говорила Татьяна Ивановна, — но, если очень больно, можно не выдержать. — Она замолчала, и Струев еще ближе наклонился к ней и увидел, что она умерла. Глаза закрылись, и легкое блаженное выражение растеклось по ее лицу. Рот ее улыбался.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
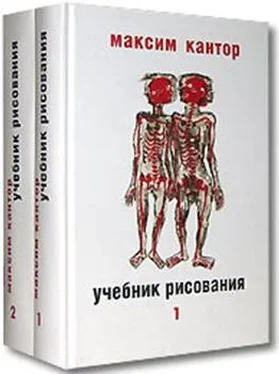





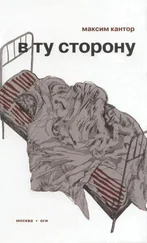



![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)