Сутки спустя Бесико уже подъезжал к Емелинску, тревожась лишь об одном: как бы сестру не похоронили без него: он, последний из этого поколения Ахурцхилашвили, не мог себе этого позволить! Он не простится, а потом кто-нибудь опоздает на его похороны: если, мол, ему было можно, почему нельзя и мне? Нет, обычаи надо чтить, на них держится часть жизни, и весьма большая!
О, как смотрит этот здоровый парень. Да, настали времена: русские стали не любить кавказцев, кавказцы — русских, армяне — азербайджанцев, азербайджанцы — армян, пошли заварухи между абхазами и грузинами… И тут не так все просто, как говорят политики. Любить — не любить, это вопрос второй. Я могу не любить абхаза, кому от этого плохо? Абхазу? Да совсем нет: у него свой дом, своя жизнь. Грузинам тоже нет дела, кого я люблю или нет. А вот когда я говорю: он — плохая нация, поэтому ты можешь его безнаказанно убить, отнять дом, машину, и все остальное берахло — это уже совсем другое. Жадность сразу делает людей смелыми, способными объединяться в большие силы.
— На, детка, покушай шанежку!..
В воскресенье она всегда пекла картофельные шаньги: наливные, с молоком и яйцами. Отсчитывала половину, укладывала в мешочек, кутала, чтобы не подсохли, и несла утром в садик. Там раздавала детишкам: не каждому доставалось, на всех ведь не напасешься! — но уж самому убогому, самому грустному, самому обиженному — это обязательно. Да с теплым словом, с ласковым касанием маленькой мягкой ладони… Ребята — жестокие существа: то и дело кто-нибудь кричал ей вслед, прячась: «Тетя Аня, дай шанежку!» Она качала головою, хлопала себя по бедрам. И каждый понедельник тащила в садик свой пухлый кулек.
— Кушай шанежку, детка, расти быстрее!..
Хоть на пенсии, хоть в бессильной старости, отдыхая на каждом углу — ползала и ползала к своей малышне. На одре уже, предчувствуя смерть и не в силах будучи оторваться от постели, сказала мужу:
— Испеки шанежки, Петико!
Он замесил тесто, сварил и истолок картошку, заправил все, как положено, испек — и они получились бледные, комковатые, подуглившиеся снизу. Старик положил их в кулек и пошаркал в садик. Зашел во дворик, и принялся раздавать гуляющим там детям. Они окружили его, расхватали шаньги и стали бросать ими друг в друга, попадая и в Петико. Никто так и не съел ни одной. Он пришел домой, сел у постели жены, на табуретку, и заплакал. И она заплакала, глядя на него, и в полдень умерла — словно уснула.
Поднятое гробовой подушкою лицо ее с коротким прямым носиком, непохожим на грузинский, было светлым и значительным — как будто старуха прилегла, а отдохнув минутку — встанет, протянет руку:
— Возьми мою шанежку, дорогой, такая вкусная!
На груди ее темнел образок равноапостольной Нины, с крестом из виноградной лозы.
«… Заблудиша в пустыне безводной, пути града обительного не обретоша. Алчуще и жаждуще, душа в них исчезе!..».
В летних коротких ночах сгорали сладкие свечи; трое пожилых людей бубнили по очереди кафисмы над гробом матери.
Огни вытягивались, колыхались; по старой просторной избе ходили люди, кто-то закусывал на кухне. Светало, из сеней и ограды набегали пауки, шуршали в бумажных цветах. Молитва, шепотки, сиплый кашель Петико, голоса внуков, обирающих в саду малину. Аллилуйя, слава Тебе!..
Кот порскнул из избы на чердак, чутко припал к испылившейся от старости земле. Глаза его жутко горели, кривые когти пластали пространство. Запах смерти делал его пьяным, не давал покоя. Он прыгнул за трубу, и глухо заурчал. Теперь дом переходил в полное его владение, и предстояло много дел.
В глубоком, самом дальнем углу голбца горько плакал маленький домовой. Нет, он не жалел хозяйку, он вообще никогда не жалел людей, никого из живого мира, смотрел лишь за постройками: его раздражал, жутко тревожил непонятный свет, достающий в любом закоулке, заставляющий дрожать жесткое мохнатое сердечко. Вздрагивала голова, похожая на небольшой чугунок.
Белый голубь беспокойно бегал по скатам крыши, несвязно воркуя. Это было его место, пока душа покойницы блуждала еще по закоулкам дома, прощаясь с миром и людьми.
Толпа внизу прибывала. Светлое облако вышло из-за горизонта и стало наплывать на город.
— Здорово, Патя!
— О, привет, Колян! Знал покойницу-ту?
— Кто ее не знал! Старожилка.
— А я у ей в группе был. Поел шанежек-то!
— Не, меня-то бабка до школы пасла. А Теплоуховы нам родня маненько! Старший-то, Илюшка, за Анькой Зотовой, а она мне по троюродному брательнику племянница. Да и сам-от Петро моему отцу дальний свойственник.
Читать дальше



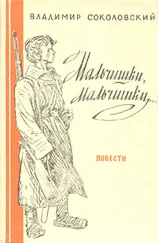
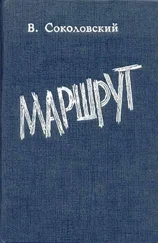
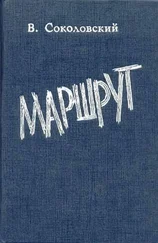

![Владимир Поселягин - Уникум [litres]](/books/435225/vladimir-poselyagin-unikum-litres-thumb.webp)


