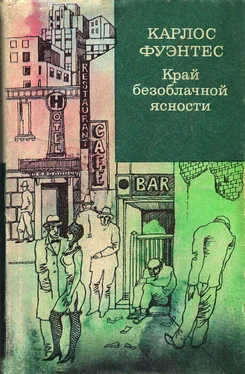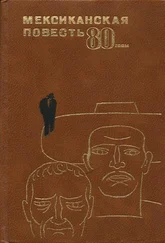— …стакан, сеньор, стакан с тумбочки, скорее…
Икска одним движением протянул руку за стаканом и поднес его к прозрачным губам старухи с иссушенной кожей, похожей на луковую шелуху. Простертая на кровати с латунными спинками, она издавала стонущие, хриплые, нечленораздельные звуки, и глаза ее без конца меняли выражение по мере того, как в ее мозгу стремительным потоком проносились непроизнесенные слова и невыразимые мысли. Росенда отпила глоток серой, мутной жидкости, и у нее заходил кадык между дрожащими жилами:
— Вы меня понимаете?
но я не могла опуститься до вульгарности, вы меня понимаете? и не могла сказать это ребенку, а могла сказать только портрету его отца (потому что в глубинах моих восприятий и воспоминаний они продолжали отождествляться, и для меня по-прежнему сливались воедино совокупление и роды, подобно тому, как в рассветной мути сливаются звезды и оба лика луны), потому что ребенок был в школе лишь предметом насмешек и с каждым днем все больше прятался в своей комнате, а я, сидя внизу за вязаньем, во власти моей лжи старалась угадать, что он делает, и, подходя к двери его комнаты, ждала, не послышится ли какой-нибудь шум, и думала о том, что он уже большой, что ему уже тринадцатый год, а в этом возрасте начинаются искушения; о том, что нужно поговорить с ним о его отце (неудачнике), чтобы он понял что к чему и не тратил времени даром (Гервасио, собиралась я сказать ему, только наговорил мне красивых фраз, а потом дал себя убить), и ложь кричала во мне: не хочу, чтобы Родриго пошел по его стопам! Он должен выйти в люди, и, во власти лжи, исходя из лжи, отталкиваясь от моей томительно однообразной работы и моего безрадостного прозябания в городе, где я чувствовала себя изгнанницей, — а ведь когда-то он был моим, когда-то в нем сосредоточивалась наша мирная домашняя жизнь, которая рухнула в один миг, сменившись мучительным сплетением любви, заброшенности, вдовства, — и жаждя (зачем, зачем существует такая жестокая любовь, так нуждающаяся в разрушении для того, чтобы сохраняться, такая строгая к естественным слабостям детей, так жаждущая засосать в чрево ребенка, который от нас ускользает?), чтобы он был моим, только моим, я решилась сказать ему, что его отец был подлец и глупец, который выдал своих товарищей, подлец, оставивший нас в нищете; так я и сказала ему, но он только спросил меня, хорошо ли Гервасио относился ко мне, а я уже потеряла (в моей одинокой постели, в мои вдовьи ночи и служебные дни) истину, которая (как я вам сказала) заключалась только в доброте и великодушии Гервасио, моего мечтателя, моего глупца, моего труса, моего ребенка, моего мужа… И я приписывала насмешкам богатых однокашников Родриго, а не моей любви (той любви, о которой я вам говорю) его молчание, его отчужденность по отношению ко мне, возникшую с того вечера, когда я заговорила с ним о его отце, его душевное состояние, делавшее для него невозможным более составлять, хотя бы так, как прежде (посредством связей, сотканных из открытых и смущенных взглядов, из красноречивого молчания) одно целое со мной, с моими убеждениями, моими воспоминаниями и моими скромными, скромными стремлениями: отныне ни мне, ни ему не суждено было больше знать (я, как раньше, употребила слово «знать»), чем живет другой. Его изуродовали в школе, говорила я себе, мы не богаты, и над ним насмехаются, и это лишило его дерзости, необходимой для того, чтобы побеждать; его заставили прятаться в своей комнате и писать вместо того, чтобы думать обо всем том, что ему надо сделать (и чего не сделал его отец; надо выдержать; все пошли далеко; Кальес был школьным учителем). И Родриго рос, а я все больше погрязала во лжи; он был уже взрослый (у него появились другие желания), приближался чреватый опасностью момент, когда выбирают жизненный путь, и я дрожала над ним — сидя в своем плетеном кресле, безмолвно повторяла ему, хотя он никогда не слушал меня, как я боюсь, что он не выбьется в люди из-за того, что в доме нет мужчины, и после полуночи тихо входила в комнату, где он писал и потихоньку начинал курить и где в это время он спал, и, встав на колени у его изголовья, широко раскрытыми глазами смотрела на него и говорила ему, что он уже не ребенок и все такое прочее, и поправляла его подушку, а он спал беспокойным сном и поворачивал голову, когда мои слова тихим эхом отзывались в его сновиденье. Это была ворожба, еще одна ворожба, не давшая результатов: он удалялся под влиянием богемной компании своих новых друзей (мы знаем, сеньор, что они не любят наших детей, что они сходятся для того, чтобы забыть о нас, чтобы потешить себя иллюзией самостоятельности, а в конце концов остаются одинокими, как остался одиноким он)
Читать дальше