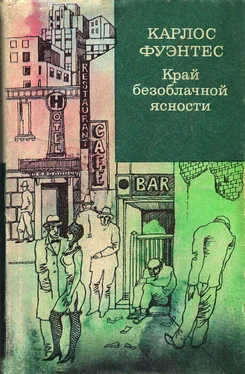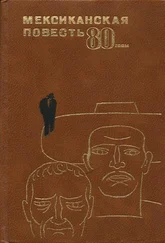Карлицы с длинными намасленными волосами обнимают нас и пляшут на наших животах; индюк на аметистовом троне говорит с нами и, зачаровывая нас своими перьями, превращает наши лица в маски сна и танца; звучит музыка — голос каменной женщины, которая волнует воды озера и сама себя душит петлей из цветов; цветы поглощают лаву, извергаемую из лунных кратеров, и в знамение праздника жидкое солнце течет по бесплотной плоти богов, которые нас принесли и нас унесут, кролика и воды, змеи и крокодила, травы и ягуара. Это наш дом, наша бирюза, увенчивающая его, наши знаки достоинства, наше черное зеркало предвестий. На западе нас ждут цветы с тремя пестиками, и солнце взойдет, когда мы оросим их влагой, таящейся в наших чревах; ступай по пути, который ведет через желтый маис и на котором ты встретишь попугая, и белый батат, и колодец с кровавой водой…
Мы долго шли дорогами, тропами и вот пришли, но пришли к водяному глазу.
И тут была сказана первая речь — о том, чтобы все получили свое маисовое зерно и построили город.
И из зрачка орла изошел приказ, и все посеяли красный маис и засыпали его пригоршнею солнц.
И проросшие солнца раскрыли свои каменные пасти и созвали праотцов, и тогда вода расступилась и зажглась, заалела огненными плодами, и змея вспрянула и стала двигаться стоймя, пока маис не вернулся в борозду и воды не остыли.
И тогда мы узнали, что солнце тоже голодно и что оно питает нас, чтобы мы возвращали ему его теплые налитые плоды.
И некоторые уже начали взваливать себе на плечи ношу, и копаться в земле, и охотиться с сербатаной на лесную птицу и чешуйчатых тварей.
Но наступал день праздника, и все прикасались к золотому трону, и с облаков падали павлиньи перья, и вода превращалась в камень.
Тогда можно было вскрывать себе вены и отправляться в путешествие с алой собакой.
Тогда мы могли, не стыдясь, кормить друг друга.
Но подул железный ветер, и камень превратился в песок и грязь.
И настало время плача и тщетных поисков, время сидеть в пыли и ловить насекомых, время заглянуть в свое сердце и найти там обугленное солнце, время, когда мы почувствовали себя беспомощными, не способными даже вымолвить слово.
Ах, братцы, ах, убогенькие, ешьте своих насекомых, ибо глаз воды высох и снова грязь затопляет города; пляшите босиком и обнимайте колючий нопаль, хватайтесь за крылья колибри, пока паршивый пес грызет ваш пуп, и пусть фиолетовые вулканы гнойников усеивают ваши чрева и срамные места; вы уже опускаетесь на дно, к матери вод, к прародителю бабочек с пунцовыми крыльями…
— Похолодало, — сказала Глэдис, проснувшись.
Бето открыл глаза и поймал на потолке последние отблески сияющего балдахина, осенявшего их во сне.
— Вот и утро, — проронил он, протирая глаза. Его глаза встретились с глазами Глэдис, маленькой и закоченевшей на клеенчатом диване.
— Клянусь тебе, Глэдис, — сказал Бето горячо и проникновенно, — клянусь нашим заступником Святым Себастьяном…
Глэдис приблизила лицо к лицу Бето, и губы их слились в нежном и тайном поцелуе.
— Не к чему идти в Вилью, ведь святая матушка не сидит взаперти, она сразу везде, — бормотала вдова Теодула Моктесума, подметая пол в своей лачуге. Мертвенный сумеречный свет проникал в нее сквозь щели в дощатых стенах и соломенную крышу. Две желтые циновки, комаль, связка сушеного перца на гвозде, тесто для тортилий, корзина с тряпками. Вдова Теодула поставила в угол метелку, взяла кувшин и начала брызгать на пыльный пол.
Фигуру ее, казалось, отягощали, как балласт, большие подвески, браслеты на запястьях, разрисованных лиловыми жилами, золотые ожерелья, обвивавшие шею до самого подбородка. Драгоценности позванивали в такт размеренным движениям старухи в раздувавшемся длинном красном платье. Кончив брызгать, Теодула стала на колени и громко сказала:
— Тебе не нужен алтарь, потому что я приношу тебе в дар мое сердце, о, милосердная мать в накидке из роз, в юбке из змей, о, сердце ветров. Обращайся хорошо с моим мужем доном Селедонио, который умер таким молодым, и со всеми ребятишками, которых ты унесла. Я тоже скоро приду, теперь уж недолго.
Она встала на ноги, погладила драгоценности. Потом вдруг прищурила глаза и поднесла руку к уху с оттянутой тяжелой серьгою мочкой.
— Ты уже пришел? — воскликнула она. — Входи, сынок, я одна.
Расхлябанная дверь отворилась, и сначала на пол легла полоса зернистого света, а потом показалась высокая фигура мужчины. Теодула опустилась на циновку и знаком пригласила его сесть возле нее.
Читать дальше