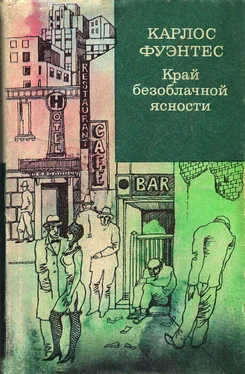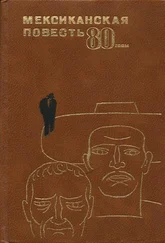— Нет; сегодня не стану, — сказала она про себя, а вслух, как заклятье, произнесла слова, которые пронеслись у нее в мозгу точно упряжка закусивших удила лошадей:
— Дух истины будет свидетельствовать о Мне
Да, потому что только позднее, много позднее, Мерседес вдумалась в эти слова из Евангелия, которые ее дядя, священник, заставил ее выучить наизусть, когда она уезжала в Морелию учиться в начальной школе. Строгая сеньора учила Мерседес грамоте и счету, но слову божьему — а это и были слова бога — наставлял ее священник, чтобы она научилась отличать видимость от истины, невзирая на мирские искушения и людскую молву, ибо истина в конце концов восторжествует и будет свидетельствовать о самой себе и о Мерседес, как она свидетельствовала о Христе. Но она это думала — не тогда, а если и тогда, то вспомнила это лишь спустя долгие годы — только потому, что ее дядя, священник, требовал от нее выучить наизусть и повторять, без устали повторять: «Дух — истины — будет — свидетельствовать — о — Мне».
— Не прикасайся ко Мне, ибо я еще не взошел к Отцу Моему.
Но в тринадцать лет сеньорита уже знает все, что полагается по части грамоты и счета, и ей говорят, чтобы она возвращалась к матери учиться другим вещам. Но ее мать прикована к креслу-каталке, сестра так и не вышла замуж и с каждым днем сохнет, тончает, как кусок металла, который обтачивают до тех пор, пока он не превратится в плоскую, ровную пластинку без единой зазубрины, а брат, офицер, служит в федеральной армии, расстреливает мятежников.
— В прошлое воскресенье мы поставили к стенке четверых, милая Мерседес, четверых смутьянов, которым довелось умереть всем вместе. Безбожники, полные гордыни, они считали, что им довольно самим простить друг друга и придать друг другу силы. Безбожники.
Мерседес бросала пяльцы и закрывала руками глаза: «Не прикасайся ко Мне… пока я не взойду к Отцу Моему, — думала она, вернее, ей казалось теперь, что она это думала всегда, а на самом деле она думала это только теперь, — пока Он не призовет нас и не свершит над нами свой суд». — Только потом — или теперь — ей стало казаться, что она вспоминает, как произносила про себя эти слова, слушая рассказы брата, когда он получал отпуск и в сдвинутой набекрень фуражке и сверкающих сапогах, с закрученными кверху а-ля кайзер русыми усами приезжал в асьенду близ Уруапана; чувствуя, как сестра, худая, как жердь, и холодная, как металл, с налитыми кислотой глазами безмолвно судит всех, в свои тридцать лет уже сознавая себя обреченной на безбрачие, что наполняло ее жалостью к самой себе, которая доставляла ей единственное неотъемлемое наслаждение; видя мать, прикованную к креслу на колесах, тоже не раскрывающую рта, как будто у нее было мало времени молчать и безмолвно упрекать бога за свою немощь: это молчание было как бы безъязыким посредником между ее собственным гневом и гневом бога, сделавшего ее калекой, как бы ситом, сквозь которое просеивались суждения, и осуждения, исходившие с обеих сторон, без слов питая друг друга и смешиваясь, как песок. И только брат судил мечом, судил во имя невысказанных слов и громового молчания матери и сестры, возмещая их немоту кровью, железом и смертями тех, кому вынесли приговор мать-калека и сестра — старая дева. Таков был этот дом, когда тринадцатилетняя Мерседес приехала из Морелии в бязевом платье, с каштановыми косами до пояса, со вспрянувшими сосками и с болями в животе, о которых ей хотелось взглядом сказать матери и сестре, но которых ни та, ни другая не объяснили ей; мать — потому что уже забыла, а сестра потому, что прятала это под черными одеждами своего стыда. Так и проходили вечера: они молча сидели в своих креслах-качалках с жесткими спинками, а в раскрытые настежь окна вливался запах спелого кофе и врывался электрический стрекот цикад, доносимый ветром, благоуханным ветром, настоенным на горной свежести и дыхании тропиков, который щекотал ноздри Мерседес и заставлял ее закрывать глаза и, глубоко вздыхая, чувствовать, как этот настой камня и фруктов спускается вниз, к животу, где таилась тяжесть и боль, и еще ниже, еще ниже.
— Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздает тебе явно.
Ей хотелось — теперь ей казалось, что она и тогда отдавала себе в этом отчет, — избить мать и сестру, чтобы их голоса наконец зазвучали, откликаясь на ее жизнь, и чтобы таким образом между жизнью Мерседес и молитвой, которую она читала за закрытой дверью, установилась какая-то связь, какая-то соразмерность, да, соразмерность, и они не оставались, как прежде, в разных плоскостях, одинаково монотонные, — молчаливая жизнь, молчаливая молитва. По утрам, когда на дороге поднимали пыль ранние прохожие и первые повозки, ярко освещенные солнцем, которое начинало припекать, пыша, как раскаленная плита, обжигающая своим жаром крылья носа и пальцы еще до того, как приготовленная на ней еда коснется нёба, Мерседес выходила погулять. Прохаживались чванные петухи, царапая шпорами неровный булыжник мостовой на короткой улочке, ведущей к корралю, а за ним начиналась дорога, тянувшаяся по полям, где шла уборка урожая, и равнина распахивалась во всю ширь от гор до реки. Мерседес шла между пеонами, убиравшими урожай, и время от времени брала несколько зерен душистого кофе, чей аромат господствовал над всеми запахами в округе, а смуглые мужчины с удлиненными черепами и с глазами, как осколки яшмы, поднимали головы и провожали ее взглядами, в особенности, когда ей исполнилось четырнадцать лет и она сама почувствовала, что у нее изменилась походка, что она налилась какой-то тяжестью и вместе с тем упругой силой и оттого приобрела горделивую осанку и непринужденную, но осознанную плавность движений. Так ходила Мерседес в четырнадцать лет по кофейным плантациям, стараясь поймать взгляды мужчин, работавших в соломенных шляпах, которые защищали их от солнца, и в то же время избегая их, потому что этого требовала ее новая осанка и потому что она хотела только хорового сопровождения звучащей в ней музыки, сопровождения, которое на самом деле она даже не слушала бы и тем более не считала бы заслуживающим внимания, но которое, доносясь до нее невнятным шепотом, создавало бы атмосферу, позволяющую ей, наконец, войти, и затворить дверь (обрести веру), и молиться в одиночестве (свидетельствовать о себе), и раскаиваться в чем-то (в своей новой манере держаться), и просить прощения за что-то (за темные взгляды): так, казалось ей теперь, она думала тогда. Наконец, однажды она поймала такой взгляд — хотя это не имело последствий, потому что она не увидела больше человека, который бросил на нее этот пристальный взгляд, а если бы и увидела, то не узнала бы его, — и сбилась с шага, остановилась, оглянулась назад и услышала голос, свой собственный голос: «Со мной что-то случится, скоро со мной что-то случится». — Она быстро, но без спешки вернулась домой, чувствуя холод в затылке и слабость в ногах, поднялась в свою комнату, заперла за собой дверь и стала бить себя в грудь и шептать в тишине, что раскаивается, раскаивается в том, что вызвала нечто такое, чего не понимала, — ведь дозволено было только то, что она знала; священник объяснил ей слово божие; она должна была знать, должна была отличать Его от дьявола — и бог, который видит во тьме, воздал бы ей, воздал бы за все, даже за то, что она согрешила, если бы она уповала на прощение; но он никогда не воздал бы ей — думала она теперь — за то, что она не жила, за то, что молчаливо пренебрегла Его милостью, как другие женщины в их доме. Надо было последовать за ним; оставить все и последовать за ним, последовать его слову и духу, но также и тому, что Он явил в своем воплощении.
Читать дальше