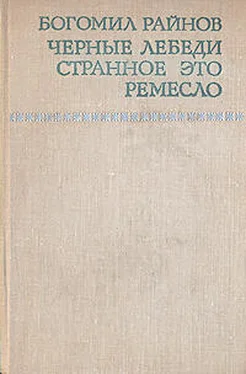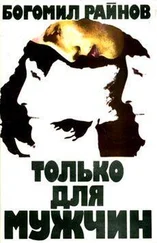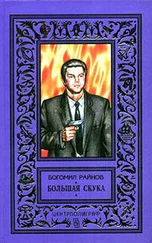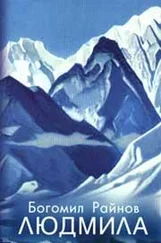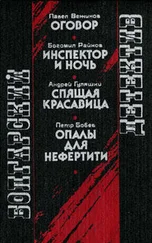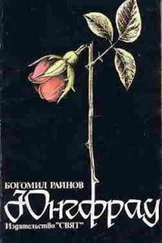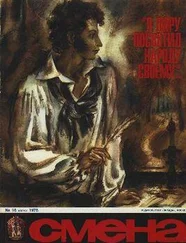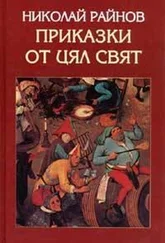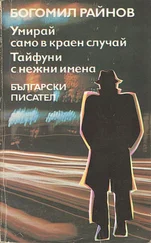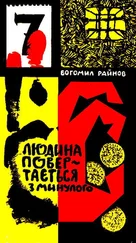И вот так, разыскивая интересное, я знакомился — специально его не разыскивая — с тем, другим, обыденным, прозаическим Парижем, который и есть настоящий Париж, но Париж не туристов, а парижан — безымянные улицы, ряды закопченных безликих строений, лабиринты метрополитена, обывательское существование между кабаком и лавкой бакалейщика, узкий будничный мирок, замкнутый двумя полюсами — жилищем и местом работы.
И хотя я давным-давно бросил думать о книге, все это — и банальное, и интересное — продолжало накапливаться во мне, я не мог помешать ему расти, заваливать меня, неотступно сопровождать, заполнять мои мысли. Смотреть, запоминать, беседовать про себя — это превратилось у меня в привычку, избавиться от которой было так же трудно, как от курения.
Я не решусь поставить знак равенства между этой привычкой и тем благородным делом, которое называется «изучением жизненного материала». Мои поиски не имели определенной цели, и, значит, я не «изучал», значит, грубо говоря, я попросту терял время. Но на сей счет у каждого свое мнение, и я об этом потерянном времени не жалею. Я даже думаю, что собирать впечатления только в предварительно намеченном направлении и только с определенной целью — это значит собирать по расписанию, по рабочему графику, так и подмывает сказать — по расчету. Возможно, есть писатели, которые умеют быть писателями от восьми до двенадцати и с двух до шести, в остальное же время освобождают свой мозг для отдыха, семьи и общественной деятельности. Что касается меня, я, как это ни стыдно, даже на самых серьезных совещаниях, бывает, ловлю себя на том, что не слушаю докладчика, а украдкой изучаю чье-то лицо, или, когда кто-нибудь из друзей поверяет мне свои заботы, я думаю о следующем пассаже заложенной в машинку рукописи; когда же наконец сажусь за эту рукопись, то думаю о друге, который только что ушел, и говорю себе, что это ни на что не похоже: к тебе приходит живой человек со своими реальными заботами, а ты в это время мысленно ведешь разговор с воображаемыми людьми по поводу воображаемых проблем. В общем — полная неразбериха.
Но эта неразбериха — в тебе самом и вокруг тебя — никогда не превратится в порядок, и причина многих наших разочарований и срывов именно в неосуществимом стремлении аккуратно, педантично расставить все по полочкам, вообще раз навсегда положить конец всем и всяческим противоречиям, хотя жизнь, как мы сами установили, состоит в постоянном возникновении противоречий, их разрешении и новом возникновении.
Я начал ощущать эту неразбериху, хоть и смутно, еще в детстве. Как я уже говорил, мы жили тогда на Регентской, в первом этаже высокого — целых четыре этажа! — дома, который одиноко торчал над соседними одно— и двухэтажными постройками, повернувшись своим неприглядным коричневато-серым фасадом к довольно неприглядному пейзажу: огромному, обнесенному колючей проволокой плацу артиллерийских казарм, где новобранцы закалялись в тяготах индивидуального обучения.
Позади дома был широкий двор, совершенно запущенный и все-таки более привлекательный, чем пустынный казарменный плац, благодаря кронам дюжины плодовых деревьев, которые кто-то догадался тут посадить. А за двором простирался второй плац — он принадлежал полицейской школе, где упражнения состояли главным образом в прыжках через препятствия и рукопашном бое.
В этом милитаристском окружении наш дом влачил потихоньку свое мирное существование. Однако и это мирное существование было полно противоречий, нелепостей, а часто и конфликтов, которые — при всей моей детской доверчивости — рождали во мне подозрение, что установленный взрослыми порядок — это всего лишь неразбериха, воспринимаемая как неизбежность и узаконенная привычкой.
Владелец дома был человеком предприимчивым, из тех, кто берется за множество разных дел, но ни одно не доводит толком до конца. Основное место среди различных его начинаний занимала — если не считать издания французских учебников — торговля солениями. Соления заготавливал он сам, учебники составлял тоже сам. Вообще он принадлежал к числу людей, которые все делают сами, презирая принцип разделения труда. Вероятно, поэтому спрос на его соленые огурчики был так же невелик, как и на его французские грамматики.
На одном этаже с нами жил Коста Петканов, человек устрашающе крупного сложения, но с нежнейшей душой. Этот одаренный певец села явно подпал под влияние городского фольклора. Он любил играть на скрипке, выглядевшей в его могучих руках такой беззащитно-хрупкой, что, казалось, она вот-вот затрещит и разлетится в щепки. Но раздавался не треск, а звуки новомодной песенки:
Читать дальше