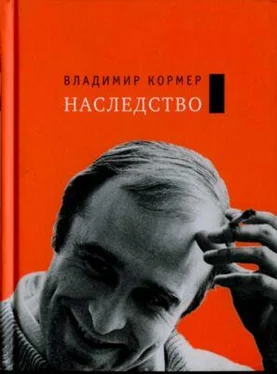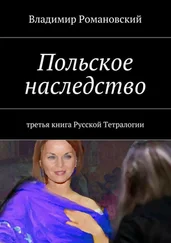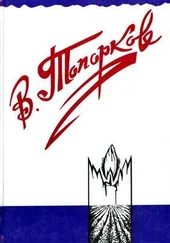Его роман «Наследство» я перечитывал с острым, непреходящим интересом. И хотелось бы дать отчет в первую очередь самому себе: в чем тут дело. Почему. Люблю такие литературные вещи, секрет которых нетривиален, которые нравятся «просто так», не из-за тенденции и не по сумме рассудочно выверенных причин. Чужие слова, далекая жизнь… Но роман засасывает в себя и при всей видимой своей дисгармоничности обладает гипнотическим эффектом: ты попадаешь в его мир и ты в нем остаешься надолго даже и после того, как перевернута последняя страница. Может быть, навсегда. Нет, удивительно, что такая, на первый взгляд, разболтанная, путаная, не очень уже понятная и внятная история — скорее свободная панорама с реминисценциями — может так увлечь.
Когда-то, в момент создания, эта книга в основной своей части была предельно актуальной. Была обжигающе современной, с подтекстом и живыми прототипами. Так сказать, летопись современности, живая история неофициальной, малотрезвой, расхристанной, богемно-андеграундной, прицерковно-диссидентской Москвы начала 70-х (где-то так) годов. Есть легендарные свидетельства о том, как ее в рукописи читали тогда в Москве и какие страсти порой закипали. До меня тогда такие рукописи не доходили, а если б я ее и прочитал, то едва ль бы много понял по молодости и глупости. Хотя чуть позднее краешком своей жизни и коснулся той среды, которая была описана Кормером.
Книгой, в легальном режиме, «Наследство» вышло много позже, уже в другое время. А теперь уже впечатление новости так давно прошло, и времена столько раз повернулись вокруг оси, что роман имеет характер отчасти любопытного исторического свидетельства. Как будто бы так. Но рискну внести уточнение: в нем есть — и перечитывание показало мне это — нечто неустаревающее, есть очевидные зерна вневременности. Есть даже что-то такое, что особенно значимо уже в наше время, в момент глубокого духовного обморока и декадентских завихрений, в момент, когда личная мобилизация на великое и святое особенно трудна (как, впрочем, трудна она и для многих, если не всех героев Кормера).
Кормеровское «Наследство» — не просто точная проза художественно трансформированного документа, социального свидетельства с детективной жилкой. Это и почти невероятный и совершенно исключительный, удивительный и удивляющий по сию пору роман гротескно-барочного стиля, полный странных героев и неожиданных положений, открывающий реальность по вертикали: от эмигрантских задворок, от канувших в небытие коммуналок и проходных дворов советской Москвы до храмового неба и нетленной вечности. Может быть, именно так: позднесоветское барокко, история жгучей тайны, история отщепенства и затерянности, бессмыслицы сущего и веры в чудо и в вечность (или жажды такой веры). Роман, начинающийся историей внезапного острого помешательства и попытки самоубийства одной из героинь — и кончающийся пасхальной храмовой службой.
От самоубийства — к воскресению, магистральный сюжет.
Впрочем, сюжет это ненатужный и реализуемый без насилия над жизнью. Все так и не так. Вот и помешательство оказывается не совсем банальным, скорее героиню настигает, как вражеская погоня, сознание бессмысленности и бесперспективности ее бытия… И главная служба года в храме предстает не в слащавом облаке сусального хэппиэнда, а — отчасти — некоей очной ставкой героев с Богом, на которой многие из них обнаруживают, что вес их слишком мал или и вовсе под вопросом… И все в этом мире двоится, растраивается. Нет, или почти нет, ничего надежного на плоскости здешнего (тогдашнего) бытия.
Это роман, где мистерия соседствует с фельетоном, с шаржем. Это вечная проза религиозных исканий и экзистенциального выбора. Но это и едкий фарс о московском богемном авангарде по-стоттепельных времен.
Ближе к финалу в романе пару раз возникает характерное словцо «амальгама». Так еще в эпоху Французской революции называли, оказывается, судебные процессы, на которых объединяли политических противников режима с уголовниками. Но что-то в этом роде происходит в душе и в жизни чуть не каждого из главных героев кормеровского романа. Мир человека здесь — тоже своего рода амальгама, где противоестественно соединяются противоположности, несочетаемые вещи, мысли, слова и поступки.
По сути, роман держится предельным натяжением одной важнейшей мысли или интуиции о полярном устройстве бытия. Она имеет акцентированио религиозный характер и заключается в том, что мир насквозь и непоправимо поражен злом, человек изъеден и изъязвлен грехом, нет в них живого места, нет Дома (взамен коммуналки и психушки), и разве что храм еще хранит, нет сада, все сдано и заколочено, затоптано в прах, в упадке и развале — но (НО!) и в этом вот мире есть не улавливаемое рассудком веяние Бога, и в человеке — дрянном, смешном, убогом — отпечатан Божий лик, есть у него тяга к иному, к высшему, к вечному. Это роман о плаче и молитве (а отчасти просто роман-плач и роман-молитва) — из бездны, de profundis.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу