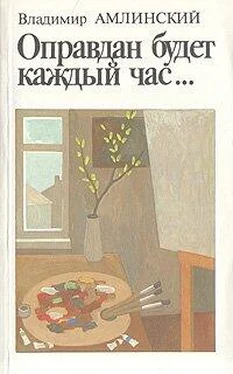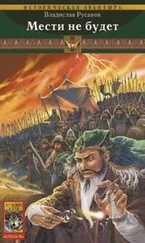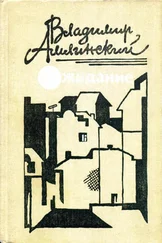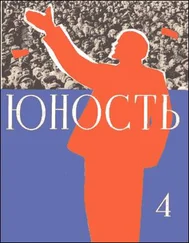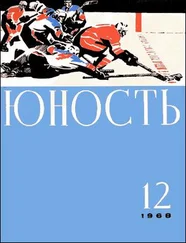Он так и остался в моей памяти — уезжающий, исчезающий, приветливо машущий рукой, проносящийся на машине, на «Ракете», на глиссере, в расстегнутой с погонами рубашке в колониальном стиле…
Отец ничего плохого о нем не говорил… Работал когда-то молодой перспективный ученый-генетик, потом переметнулся в лагерь Лысенко, что не было удивительно в те времена. Не все устояли. Но среди дрогнувших были люди с больной совестью, не верившие малограмотному лидеру, их мучили и жгли незабытые слова Николая Ивановича Вавилова: «Без правды науки нельзя создать правду нового общества». Этот же был откровенно циничен. Он не просто шел в фарватере, но и превратился в активного изобличителя вейсманистов-морганистов, построил всю свою карьеру на этом. Когда положение Лысенко стало колебаться, он тут же отошел от него и тут же стал разоблачителем Лысенко, видя в том трамплин для нового взлета. А был он, по словам отца, человеком способным и, что самое опасное, ведающим, что творит.
…Многие творили легенду о «народном академике», сознательно и бессознательно лгали, а некоторые и верили по невежеству. Писатели и кинематографисты, ничего не понимавшие в науке, даже воспевали его, получая за это почетные звания и премии. Но что с них спросить — приспосабливались ко времени, не ведая, да и не желая понять истину, бойкие пропагандисты передовых идей в мичуринской биологии.
Этот же человек знал истину и обманывал сознательно. Он был образованный биолог, и первые его труды поддержали серьезные и крупные ученые.
Сейчас он вновь преуспевал и делал свое дело достаточно профессионально, на сей раз не расходясь с собственной совестью… Впрочем, к этому понятию он относился спокойно и с трезвой иронией. След раскаяния не просматривался ни в словах, ни в поступках. Впрочем, может, где-то в подводных глубинах… Темен человек.
Об этом я сказал отцу и ждал возражений. Ведь он всегда думал обо всех лучше, чем они есть, многое на своем веку повидал и многое простил. Только предательства он не мог простить… И потому на сей раз он не стал спорить со мной. Последняя запись в ялтинском дневнике: «На завтра куплены билеты в Москву, а в комнате полно красных и белых роз. Это после моего доклада на научном совещании в Никитском ботаническом саду «Содержание и анализ «Философии ботаники».
Дело, конечно, не в цветах и аплодисментах, а в какой-то жердочке самоутверждения, которая должна поддержать — значит, еще нужен, еще могу».
Вспоминает его ученик доктор биологических наук Б. Е. Мовшев:
«Его отличало редкое сочетание несгибаемости и гибкости интеллекта. Он думал тем более мужественно, чем реальней угрожала опасность, и эта способность становилась почти дерзкой, когда дело касалось его самого.
Он не был мудрецом, изрекающим истины и не озабоченным их дальнейшей судьбой. Библейской догме, будто знание увеличивает страдание, он мог противопоставить свое, проверенное: знание — всегда добро, сомнение вослед знанию — добро вдвойне. Он не признавал мудрости, стоящей выше знания, но только «за» знанием. И чем тверже была его убежденность, тем любовнее он оттенял свои утверждения вопросительной интонацией, призывая собеседника к размышлению.
Он был близок к идеалу всеведения не скольжением на поверхности, а углубляясь в самые первопричины. Он дорожил своей специальностью, своим делом, но интересовался и умел войти в любой круг познания. Ему были доступны все звуки «мирового концерта», «вся та нерасторжимая гармония, которая называется культурой». Таким был И. Е.
Отличать показное от сути — не слишком редкое свойство. Распорядиться им в повседневности умеют немногие. Видеть истоки — удел единиц. Таким был И. Е.».
Год за годом он отбивал атаки болезни. Дух был сильнее плоти, и дух эту плоть спасал. Болезни его были не очень тяжелые, хотя шли косяком, на приступ, одна за другой, словно хотели во что бы то ни стало потопить ослабевшую от борьбы лодчонку… Но она держалась на волнах. В своем дневнике перед одной из операций отец записал:
«Утро… Спокойствие до неприличия. Все интерено, как и вчера, как и каждый день. Нет мелодраматических мыслей «что день грядущий мне готовит». Словно впереди не продолжение муки, а экспедиция в неясность».
И он переламывал судьбу. У него было любимое выражение: «Я играю на ничью». Он играл со своими болезнями на ничью; он не мог одолеть их, они не могли сломать его.
В семьдесят девятом году он, как всегда, с Галиной Вениаминовной уехал в Ялту работать, а в промежутках гулять, записывать свои мысли, разговоры, впечатления, сегодняшние и давние встречи в дневник. В Ялте был грозный приступ почечных болей, я спешно доставал антибиотики, чтобы переправить в Ялту, сам решил туда лететь, но он сказал мне по телефону: «Кажется, обошлось».
Читать дальше