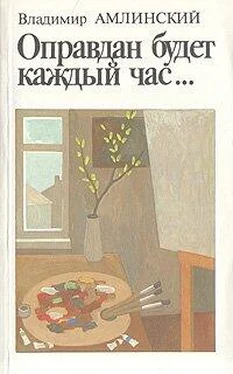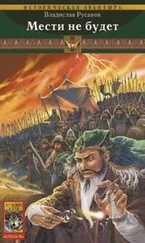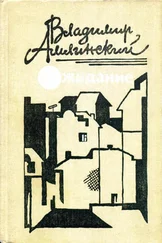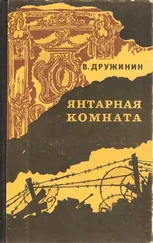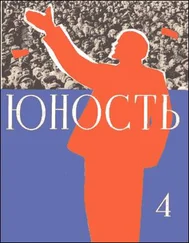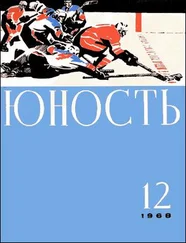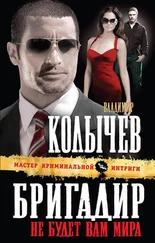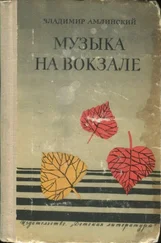На самом же деле лемуры — это пугливые, нежные, артистичные обезьянки с огромными, близко поставленными глазами, гибкие, склонные обманывать своих ловцов неожиданными движениями.
Так же, как в дневниках отца середины тридцатых годов возникло имя Жоффруа Сент-Илера, так же, как в более поздних повторялось имя Мечникова, так в последние годы все чаще встречается имя Карла Линнея.
В шестьдесят пятом году сборник «Идея развития в биологии» открывался статьей отца о Линнее. Это было начало новой большой работы.
Отец задумал издание «Философии ботаники» Линнея с новым оригинальным переводом, со своими научными комментариями и послесловием. Это была работа огромной трудоемкости, посильная, казалось, целому институту. Однако отец решил ее довести до конца один с безотказной помощью своей жены Галины Вениаминовны.
Вот отрывок из его дневников семьдесят седьмого года. Надо сказать, что работа проходила трудно, целый ряд людей, так или иначе связанных с этим трудом, не только не помогал, но и мешал ее продвижению.
«Давят мозг возражения против примитивной правки «ФБ» Линнея и рецензии член корр. и двух докторов наук, которые подошли к гиганту середины XVIII века, стремясь превратить чудесную могучую сосну в «хорошо отредактированный телеграфный столб».
Я испортил много бумаги, нервов, укрощал в себе негодование, чтобы показать всю бездну незнания истории науки , которую выдают за «редактирование» переводчики и редакторы. Самое курьезное, что по своей «высокой ориентированности» снаряды идут в адрес самого Линнея; итак, по крайней мере три обстоятельства лишают значимости правку и замечания рецензента, делают их несостоятельными.
1. Для утверждения неясностей или неудачи перевода и его редактирования необходимо было сверить перевод с латинского оригинала, а этого не было сделано.
Иначе критические замечания не только становятся несостоятельными, но являются незаслуженным ударом по памяти видного лингвиста Серг. Вал. Са - пожникова, который около двух десятилетий трудился над подготовкой к публикации на русском языке великого труда, чего не сделал ни один ботаник, но он не дожил.
2. Нельзя подходить к тексту перевода памятника науки середины XVIII века с его неминуемыми архаизмами без учета элементарных законов текстологии.
3. Нельзя было, наконец, давать отзыв на труд, в котором все «ошибки» сводились к неуточненным русским переводам некоторых названий растений с латинского с позиций ботанической номенклатуры 1949 года.
Следовало хотя бы прочитать обращение Линнея к «Читателю-ботанику», чтобы убедиться, что труд предназначался как практикум для учеников Линнея и, естественно, устарел; поэтому лучшее в труде было ботаниками за столетие использовано и легло в основу современного здания этой науки.
Мы же взялись за этот тяжкий неблагодарный труд в интересах истории философии и естествознания более двадцати лет назад, так как он является началом своеобразной «антагонистической трилогии». Мы вели трудное научное редактирование «Философии зоологии» Ламарка, впервые опубликовали на русском языке «Философию анатомии» Жоффруа Сент-Илера, и, естественно, было важно понять давшего им начала Линнея, создателя первой искусственной системы органического мира, проанализировать методологические противоречия между трудами великого эмпирика и его метафизическими воззрениями».
Больница, болезнь, начинающаяся слепота. И снова преодоление ее, свет во тьме.
Отец, в молодости ругавший себя за склонность к созерцательности, за пассивность, несвершенное, написавший в свое время рассказ «Действенность» о человеке-созерцателе, ломающем себя… Во имя чего? Во имя действия.
Отца мучило, что он уйдет, так и не осуществив тех больших поручений, которые он один мог выполнить, к которым обязала его историческая и научная судьба.
У меня было три страшных сна в жизни. Я их запомнил: в них отец умирал. С детства я был уверен в его бессмертии, всегда отгонял мысль о его конце, даже когда он болел, даже в самые последние дни. Я все равно верил в его силы, в его возможности, уже немолодым человеком он изумлял меня гибкостью, остротой своей памяти, умением собираться и работать почти круглосуточно (правда, иногда после пауз расслабленности — он эти паузы называл «подступами»).
В детстве я спрашивал его: «А кто сильнее, ты или Илья Муромец?»
Он был самый сильный, непобедимый, лучший.
Читать дальше