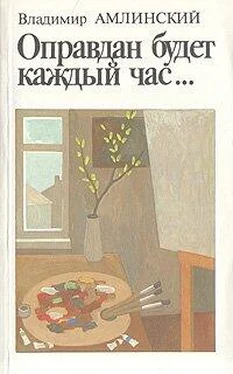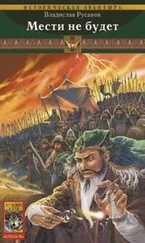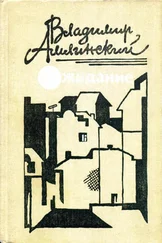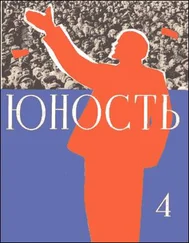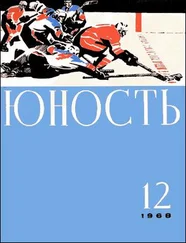Стоял человек из другой, покинутой, оставленной, прожитой жизни — Олег Кощеев. Высокий юноша, мой сосед, мой близкий товарищ. Он жил в пятнадцатой квартире, и, когда мне случалось прогуливать, я отсиживался у него. Благо что недалеко, да и учился он удобно для моих прогулов — во вторую смену.
Высокий юноша стоял и улыбался, смотрел на меня. Вот что поразительно: он не изменился. Почти…
Конечно же, если говорить строго, изменился, что называется, возмужал, поседел, но сохранил о б л и к, был легко узнаваем. К тому же в нем — и верно, это будет до глубокой старости — в манерах, в жестах было неистребимо юношеское. Двадцать пять лет мы с ним не виделись.
— Ты к кому?
— Да так, проходил мимо. А ты куда?
— В булочную.
Да, рядом была булочная, маленькая, уютная. В нее я забегал по дороге в школу и покупал один или два рогалика. Она пахла душистым, горячим свежеиспеченным, утренним хлебом. Память тут же вернула мне обрывок зимнего утра, «ученический зимний рассвет», дорогу в школу и по этой не столь уж радостной дороге счастливую минутную остановку, тепло булочной, вкус нежного, слегка подгоревшего рогалика, особенно прекрасный вкус теплого хлеба на морозе.
И вот оттуда, из этого давно потерянного в тысячах других зимнего утра, вынырнул Олег Кощеев. Действительно мало изменившийся, с гривой чуть поседевших волос и с каким-то юным, резким, не дающим ему состариться поворотом головы.
— Я прочитал в газете о смерти твоего отца,— сказал он.— Я тогда был в командировке… Приехал, много раз тебе звонил, но у тебя, кажется, новый телефон… Я долго не мог прийти в себя.
Олег рос без отца… Безотцовщина тридцать седьмого года. Может быть, потому он любил бывать у нас, любил разговаривать с моим отцом. Отец учил и его и меня играть в теннис, но как-то не пошло, мы бросили. Отец его замечал. Это ведь очень важно — замечать. Никто никого, а точнее, мало кто кого замечает, видят, но не замечают. Слушают, но не слышат. Летят, летят мимо, не понимая, что в конце концов и они снежинки, которые исчезнут, истают.
Отец замечал. Он любил спрашивать, умел слушать. Иногда меня это даже раздражало, мне казалось, что так невозможно, что внимание может быть только избирательным, что все не могут, не должны попадать в его сферу, иначе сама эта сфера ослабнет, потеряется. А некоторых, я считал, замечать просто не нужно.
Но он не соглашался. Он изначально видел всех хорошими, а многих — одинокими. У него был редкий интерес к людям. Почти ко всем, без выбора… Иногда этот интерес мешал ему, опустошал его, но не исчезал до последнего дня.
Олег все-таки зазвал меня к себе… Такая же квартира, как наша на пятом этаже,— один к одному. Они занимают две комнаты по-прежнему. Я осторожно спросил о матери.
— Ничего,— улыбнулся он.— Воспитывает внуков.
— Внуков?
— Да, у меня двое.
Я вспомнил его мать, энергичную, всегда неплохо одетую, державшуюся прямо, с таким же, как у него, юным, бескомпромиссным поворотом головы, и даже тяжеленные сумки, которые она обычно несла после работы, не придавливали ее к земле, не сутулили.
Об отце он говорил редко, скупо. Какая-то болезненность или запрятанная, никому не высказанная обида появлялась в его глазах. Видел я большую фотографию отца в шахте Московского метрополитена, в шлеме, в спецовке, с группой людей; некоторые из них были знакомы по портретам — руководители города, метрополитена, партийные работники. А он — один из ведущих инженеров московского метро — пустил в строй первую очередь, первую линию чудо-транспорта. А потом исчез.
Он появился, и я увидел его в пятьдесят шестом году, он вернулся из долгих своих скорбных странствий и даже пошел работать по специальности, так как был не просто крупный, опытный инженер, а ученый, теоретик метростроя.
Еще нестарый, он казался очень нездоровым; худой, лысина в седых клочьях открывала крупную, с шишками, голову, а на лице была сеть морщин, сложная, прерывистая, словно он носил маску. Он много пил, не пьянея, и начинал возбужденно, будто стремясь восполнить долгие дни и годы молчания, разговаривать, разговаривать. И все повторял (помню, меня это даже выводило из себя): «Ну что, племя младое, незнакомое?»
Прожил он недолго, Олег так и не узнал по-настоящему своего отца.
А с моим он дружил, иной раз отец брал Олега со мной на стадион «Динамо». В воскресные дни, когда матчи начинались рано, мы возвращались пешком через всю Москву, сквозь патрули милиции, которые стояли вплоть до Белорусского вокзала. На улице Горького уже становилось свободнее, и дальше она вольно и легко вела нас к площади Дзержинского. Просторные улицы московского центра впадали в нее, как реки, и плыть по ним не спеша в вечерний летний час казалось счастьем.
Читать дальше