— Взгляните туда, — обратился ко мне Биши, перекрикивая общий гомон. — Вон мистер Хант. Видите вы его? В фиолетовой шляпе. Это великий человек, Виктор. Герой грядущего века.
Взгляд Ли Ханта упал на Биши, он широко улыбнулся и приподнял шляпу.
— Вы знаете, Виктор, почему он здесь? Мистер Хант друг Каннингема. Наш автор — сын свободы. Меня не удивило бы, начнись нынче вечером демонстрации против правительства.
Биши удовлетворенно оглядывался по сторонам. Нижние ряды партера тем временем заполнились до предела, а вскоре и места позади нас, и ложи вокруг были целиком заняты. Прежде я никогда не наблюдал лондонской толпы, если тут позволительно использовать это слово, и должен сказать, что она вызвала у меня определенный испуг. Несмотря на смех и общее оживленное настроение, она напоминала некое беспокойное существо, занятое поиском добычи. Способно ли множество жизней составить одну жизнь?
Оркестр заиграл какую-то мелодию, несомненно сочиненную по этому случаю, — и занавес раздвинулся, открывши горный ландшафт, лед и скалы.
— Узнаете ли вы эти места? — прошептал мне Биши. — Мы в Швейцарии.
Затем на сцене появилась фигура в колпаке, облаченная во все черное. Она приближалась шагом быстрым, более подобающим дикому созданию. Выглядело все это столь странно и угрожающе, что публика замерла.
— О небо, что есть человек? — раздался неестественно громкий голос. — Существо, обладающее неведением, но не инстинктом слабейшего из животных!
— Это Наджент, — прошептал Биши. — Искуснейший актер.
Затем фигура повернулась к публике и сняла колпак. При виде ее бледного, с запавшими щеками лица — изможденного, отмеченного печатью терзания, дрожащего — раздались невольные возгласы удивления, а возможно, и смятения.
— Гримерам пришлось потрудиться, — сказал Биши.
Однако я едва слушал его. Фигура эта выражала нечто столь горестное, столь ужасное, что все мое внимание было приковано к ней.
— У омута, покрытого пеной, растет дуб. Мне нередко доводилось слышать, что в давние времена здесь окончила горестные дни свои женщина — отчаявшаяся, несчастная, подобно мне. Что ее горести в сравнении с моими! Мои не окончатся вовек. — Казалось, он оглядывает зал, всматриваясь в каждое лицо, ловя каждый взор, и меня охватил необъяснимый страх, что он встретится глазами со мной! — Я совершил великий грех пред небом — грех гордыни и умственного восхваления. Ныне я обречен на скитания. Мельмот стал Канном, отверженным на этой земле! — Я не понимал тогда, отчего эти слова оказывают на меня столь сильное действие. — Тайна судьбы моей покоится во мне самом. Если все то, что нашептал обо мне страх, если все то, во что верят вопреки недоверию, — правда, то каков итог? Таков, что, коли деяния мои превзошли все преступления смертных, то же станется и с моим наказанием. Я, напасть на этой земле…
Кто-то выкрикнул: «Ливерпульская напасть!» [10] Намек на бывшего тогда премьер-министром (и присутствовавшего на описанном представлении) Роберта Бэнкса Дженкинсона, 2-го графа Ливерпуля. Лорд Ливерпуль печально прославился репрессиями против радикального движения в Англии. Именно он на время отменил действие хабеас корпус в Англии (1817 г.) и Ирландии (1822 г.), а также наложил ограничения на свободу слова и собраний. В 1820 г. последователи радикала Томаса Спенса попытались организовать покушение на лорда Ливерпуля, однако заговор был раскрыт и часть его руководителей повешена.
— и все — премьер-министр и люди вокруг меня — разразились хохотом.
На мгновение могло показаться, будто Наджент ошарашен, однако он, положив руку на грудь и устремивши взор на изображение отдаленных гор, дождался, пока шум утихнет, и вновь сделался Мельмотом.
— Я проклинаю и терплю проклятья. Я покоряю и терплю поражения.
Прежде мне ни разу не доводилось лицезреть искусство преображения так близко, и меня восхитила та кажущаяся легкость, с какою Наджент входил в образ Мельмота, — он казался еще более живым, будучи и самим собой, и этим несчастным. Он словно приобрел силу, вдвойне превышающую ту, что дается одному человеку.
— Каждое человеческое сердце клянет меня, однако ни одна человеческая рука ко мне не прикасается. Вот они, руины. — Дрожащею рукой он указал на груду камней на краю сцены. — А там, позади, — та часовня, где обвенчаюсь я со своею избранницею.
Меня поразил не сюжет, но игра актера и представление. Мне никогда прежде не доводилось видеть ни столь большой сцены, ни столь пышной постановки, да и к особой яркости газовых ламп я едва успел привыкнуть. Густые тени, богатство красок и симметричность композиции на сцене — все это вместе создавало эффект более жизненный, нежели сама жизнь. Мне вспомнилась книга с цветными рисунками, что хранилась в сакристии церкви Святой Девы Марии в Оксфорде — ее разрешалось посмотреть по предъявлении письма от члена колледжа, и однажды я провел восхитительное утро за переворачиванием страниц, синих и золотых, украшенных блестящими изображениями святых и диаволов. Так было и в «Друри-Лейн» тем вечером. Это походило не на какую-либо горную местность в моей родной стране, но на прекрасное и возвышенное видение — картину пустынного отчаяния. Насколько я мог судить, на сцене кроме настоящих камней и гравия были валуны побольше, сделанные из натянутого холста, раскрашенного в серый и синий, а поток, бежавший позади, был длинной полосой серебряной бумаги, которую колыхали невидимые руки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
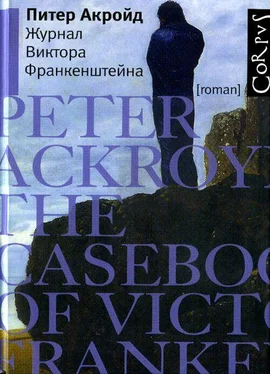

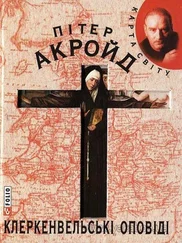




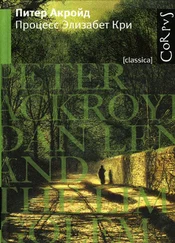



![Питер Акройд - Темза. Священная река [litres]](/books/437621/piter-akrojd-temza-svyachennaya-reka-litres-thumb.webp)
