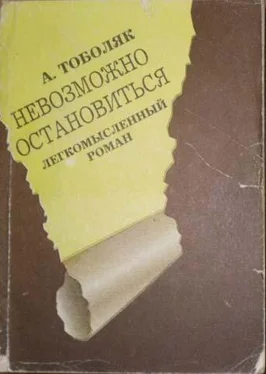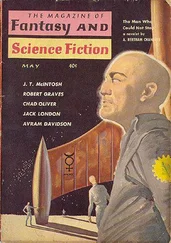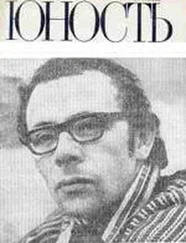Так бормоча и рассуждая, я бреду темным двором и утыкаюсь в подъезд, явно знакомый по сорванной двери и жалким останкам телефона-автомата. Чудо, но я не удивляюсь. Я готов и к этому — к подъезду Суни. Ибо провидение меня бережет, — понимая, как я прав и как несправедлива Семенова.
И Суни, открыв дверь, сразу понимает, что меня надо беречь и любить. Их вождь Ким Ир Сен тоже, думаю, приветил бы меня, ввались я сейчас в его резиденцию. Потому что корейцы не такие злые, как ты, Семенова.
— Туфли снимай! — кричит Суни. (А между прочим, в длинной ночной рубашке.) — Сумеешь?
— Смогу. А выпить у тебя есть?
— А тебе будто надо!
— Надо.
— И сразу свалишься, да?
— Нет, Суни, я нынче спать не намерен. Тр-рагедия, Суни.
— Что — Семенова отлуп дала?
— А ты не радуйся, Суни. Ишь, как ты возрадовалась. Ну, дала. Но Бог-то все видит. Накажет.
— Она на работу не вернулась. Ее редактор искал. Он ей завтра влупит.
— Правильно сделает. Плохая она. А ты хорошая.
— Молчи, изменщик! Скажи спасибо, что у меня никого нет. А то бы не пустила.
— Спасибо, Суни, — выговариваю я внятно, — что у тебя никого нет, что так меня ждала. Куда идти?
— В комнату, куда!
— Ошибаешься. В туалет.
В туалете (брысь, Эдичка Лимонов, не подглядывай!) меня, разумеется, выворачивает смесью твердого и жидкого. (Кому не по душе, не читайте, а я правду говорю.) Но выхожу я, ополоснув под краном личико, с новыми силами и по-прежнему талантливый. Мой талант не выблюешь, хоть всю жизнь блюй — правда, Суни?
— Чи-иго?
— А, ладно! Вина бы, Суни, хорошо бы.
— Все у меня выпиваешь! — кричит ночная рубашка.
— А тебе вроде жалко? — хмурюсь я.
— Учти, мне завтра на работу.
— Мне-то не на работу.
— А мне на работу!
— Тебе-то на работу, а мне нет, — настаиваю я на своих правах свободного художника.
— Полвосьмого выгоню, учти!
— Ну, иди, иди, не пугай! — отправляю я Суни на кухню и громко продолжаю: — Суни, слышишь! Ты завтра Семеновой не вздумай сказать, что я у тебя был, ладно? Ты же умеешь молчать, я знаю.
— Боишься! — слышу из кухни.
— Нет, Суни. Мне уже ничего не страшно. Все я знаю и понимаю, вот что обидно. Суни, давай поженимся назло Семеновой.
— Как же!
— Конечно, — обижаюсь я, — тебе Ким Чен Ира подавай. Националистка ты!
— А ты блядун и пьяница.
— А ты чимча и пенсе!
— Добьешься, не налью!
— Нальешь, нальешь. Ты же не такая злая, как Семенова. Представляешь, Суни, она может укусить! Страшно ведь!
— Я тоже могу укусить. Посильней твоей Семеновой!
— Да, ты тоже можешь, — вдруг соглашаюсь я, поникнув. — Как же быть? Что мне делать, Суни? Где выход?
— Вот! — входит она в комнату с подносом, а на подносе бутылка «Агдама» и тарелочка с колбасой и сыром. — Больше ничего нет.
— Мало, — укоряю я.
Суни по-корейски что-то шипит — какой-то непонятный мат.
— Суп тебе, что ли, согреть? — кричит она.
— Не надо. Лучше поцелуй. Меня сто лет никто не целовал. Одинок я, Суни.
— Ври больше!
— Скоро умру.
— Да перестань ты! На ночь каркаешь!
Но ставит поднос и целует, как прошу, — формально, правда.
Пропускаю полчаса. За полчаса ничего не происходит. Лишь вино в бутылке на две трети уменьшается. Лишь Суни, разгорячась от агдама, расслабляется, теплеет и льнет, прося ласки, лишь я тяжело мрачнею, цепенею и удаляюсь в свои окрестности.
— Раздеваться думаешь? — начинает сердиться хозяйка.
Тут Теодоров наливает в свой фужер остатки из бутылки, выпивает одним махом, встает и идет к двери. Суни думает, что он отправился в туалет, но Теодоров в прихожей натягивает нерасшнурованные туфли, привалясь к стене. Суни выбегает следом. Маленькая, в ночной рубашке.
— Ты куда? — не понимает она.
— Суни, я тебе надоел. Я пойду.
— Не бесись!
— Нет, пойду. Извини, Суни. Пойду, — бормочу я. Красные справедливые пятна гнева вспыхивают на ее щеках.
— Пришел, все выпил и убегаешь, гад! — кричит она.
Вот опять Теодоров стал гадом, во второй уже раз за день!..
Чувствую, что затягиваю, расползаюсь мыслью по древу. Но ночь-то необычная, бесконечной длительности. Она густеет, темнеет, наливается внутренней силой. Последняя, может быть, ночь или предпоследняя, кто знает. Дождь закрапал из темного безлунного неба. Одна лишь звезда, неизвестно какая, без имени, светит низко над горизонтом в океанской стороне. Страшная городская тишина. Временное вымирание всех жителей. Редкое окно светится, а за тысячами темных — оцепенелый сон.
Читать дальше