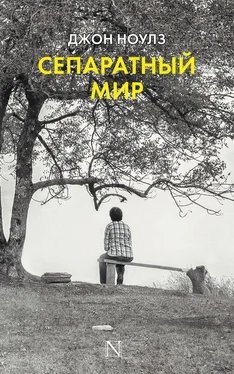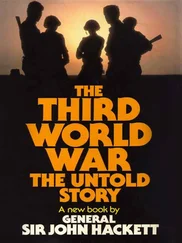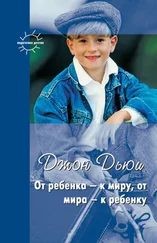– Подожди, – более требовательно сказал я. – Подожди минутку. Я иду.
– Нет, приятель, не идешь, ты будешь заниматься.
– Мои занятия – не твоя забота.
– Ты думаешь, что уже достаточно поработал?
– Да, – сказал я резко, чтобы пресечь его дальнейшие попытки указывать мне, что делать. Он пропустил это мимо ушей и пошел впереди меня, насвистывая.
Мы прошли через весь кампус, следуя за собственными гигантскими тенями, Финеас принялся болтать на своем ужасном французском, чтобы дать мне дополнительную возможность попрактиковаться. Я не отвечал, мой мозг пытался постичь новые измерения обособленного пространства моего существования. Какой бы страх ни испытывал я перед тем деревом, он был ничем по сравнению с этим. Сейчас опасность грозила не моей шее, а моему рассудку. Финни никогда ни секунды не завидовал мне. Теперь я понимал, что между нами не было и не могло быть никакого соперничества. Мы были из разного теста.
Этого я вынести не мог. Мы подошли к остальным, уже слонявшимся вокруг дерева, и Финеас, возбужденный видом догорающего заката, предстоящего испытания деревом, соревновательного напряжения, охватившего всех нас, начал лихорадочно сбрасывать одежду. В такие моменты он расцветал и жил по-настоящему.
– Пошли, ты и я, – крикнул он. Его осенила новая идея. – Мы прыгнем вместе. Здорово придумано, а?
Теперь уже ничто не имело значения, я равнодушно был готов согласиться на что угодно. Он начал подниматься, цепляясь за деревянные колышки, и я полез следом за ним к высокому суку, нависавшему над берегом. Финеас немного продвинулся по нему вперед, для равновесия держась рукой за ближайшую тонкую веточку.
– Подойди чуть поближе, – сказал он, – и тогда мы сможем прыгнуть одновременно.
Открывавшийся сверху вид был потрясающим: темно-зеленые пространства игровых полей, окруженных густым кустарником, белый, кажущийся крохотным школьный стадион за рекой. Падавшие из-за наших спин длинные лучи заходящего солнца, бликуя, освещали кампус, делая рельефными малейшие неровности земли, подчеркивая особенность каждого куста.
Крепко держась за ствол, я сделал шажок вперед, и тут мои колени подкосились и я качнул сук. Финни, потеряв равновесие, повернул голову, взглянул на меня с чрезвычайным интересом, а потом стал падать боком, обламывая мелкие ветви на своем пути, и грохнулся на берег с отвратительным неестественным стуком. Это было его первое неуклюжее действие, которое я видел. С бездумной решительностью я шагнул на край сука и прыгнул в воду, от былого страха у меня не осталось и следа.
В течение следующих нескольких дней ни одного из нас и близко не подпускали к лазарету, но я был в курсе всех слухов. В конце концов появился достоверный факт: у Финни раздроблена нога. Что точно означало это слово, я не понимал: что нога сломана в одном месте? В нескольких местах? Аккуратно или с осколками? Но вопросов я не задавал. Больше ничего узнать не удалось, хотя предмет этот обсуждался бесконечно. В мое отсутствие, должно быть, говорили и о других вещах, но со мной – только о Финеасе. Полагаю, в этом не было ничего удивительного. Я ведь стоял прямо за ним, когда это случилось, и был его соседом по комнате. Его травма произвела на преподавателей более глубокое впечатление, чем какое бы то ни было другое несчастье, на моей памяти случившееся в школе. Как будто они чувствовали несправедливость в том, что беда постигла одного из шестнадцатилетних, одного из немногих молодых людей, которые летом 1942 года еще должны были быть свободны и счастливы.
Я больше не мог всего этого слышать. Если бы кто-то в чем-то обвинял меня, я нашел бы силы защититься. Но ничего подобного не было. Финеас, наверное, был слишком болен – или слишком благороден, чтобы что-нибудь рассказать.
Я старался как можно больше времени проводить в одиночестве, в своей комнате, пытаясь стереть из памяти все мысли, забыть, где я и даже кто я. Однажды, пребывая в состоянии этого полного оцепенения, я переодевался к ужину, как меня вдруг осенила идея – первая сколько-нибудь определенная с тех пор, как Финни упал с дерева. Я решил надеть его вещи. У нас был один размер, и он, хоть вечно критиковал мою одежду, часто носил ее, быстро забывая, что принадлежит ему, а что мне. Я этого никогда не забывал, но тем вечером надел его кордовские туфли, его брюки, потом, поискав, нашел наконец в ящике комода тщательно выстиранную розовую рубашку. Ее высокий, немного жестковатый воротник уперся мне в шею, широкие манжеты коснулись запястий, дорогая ткань прильнула к коже, и я испытал ощущение принадлежности к знати, почувствовал себя аристократом, кем-то вроде испанского гранда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу