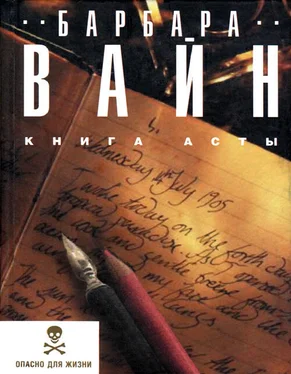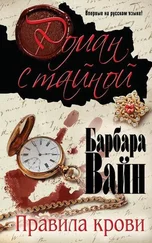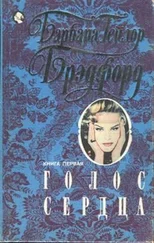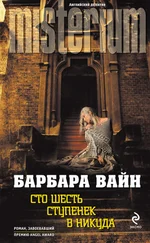Прошло восемь лет, и теперь на многие вещи я смотрю иначе. Жаловаться бесполезно: если бы я и захотела поплакаться, слушать меня некому, и еще меньше желающих обо мне позаботиться. Поэтому все свои жалобы я оставлю на этих страницах. Странно: когда я купила эту тетрадь, мне полегчало. Я почувствовала себя даже счастливой, без всякой на то причины. В этом доме на Лавендер-гроув мне все так же не с кем поговорить, кроме двух мальчиков и Хансине, — только какая польза от бесед с нею? Не с кем вспомнить умершего и подумать о будущем ребенке. Ничего не изменилось. Вот уже пять месяцев я не видела своего мужа, и более того — два месяца от него никаких вестей. Тетрадь не сделала легче ребенка, которого я ношу, живот колышется, словно огромный мешок муки. Но она скрасила мое одиночество — худшее из всего, что мне приходится терпеть в этой ужасной чужой стране. Кажется, таким странным образом я положила ему конец. Когда вечером Моэнс и Кнуд отправятся спать, у меня будет занятие. Будет с кем поговорить. Вместо раздумий о Расмусе и о том, как можно человека не любить и не хотеть, но, однако, ревновать, вместо тревоги о мальчиках и о ребенке внутри меня я снова смогу писать. Да, я все запишу.
Именно этим я теперь и занята. Вошла Хансине. Принесла газету. Я сказала, что пишу письмо, и попросила не выключать газовый свет, как она обычно делает. Видите ли, экономит его деньги. В Копенгагене в десять вечера еще светло, но здесь темнеет на полчаса раньше. Со дня летнего солнцестояния Хансине уже трижды повторила это, так же как все время с настойчивостью сельского жителя напоминает, что дни становятся короче. Она спросила, не слышно ли чего о «мистере Вестербю». Она всегда спрашивает, хоть и знает, что почтальон заглядывает в оба соседних дома, но только не в наш. Ей-то что? Всегда кажется, что она презирает его даже больше, чем я, если такое возможно. Наверное, просто понимает, что, если он не вернется, мы с детьми окажемся в работном доме и она потеряет место.
Хансине вошла снова и предложила приготовить чай, но я отправила ее спать. Если деньги не придут, нам вскоре придется меньше есть, и, может быть, она похудеет. Бедняжка такая толстая, и продолжает толстеть. Неужели из-за белого хлеба? До переезда в Англию никто из нас его даже не пробовал. Мальчики полюбили белый хлеб и объедались им до дурноты. Нож для ржаного хлеба, который мне подарила на свадьбу тетя Фредерике, я убрала в буфет. Вряд ли здесь он когда-нибудь снова потребуется. Вчера я открыла буфет, посмотрела на нож — символ нашей прежней жизни — и чуть не разревелась. Но сдержалась. В последний раз я плакала, когда умер Мадс, и никогда больше плакать не буду.
Комната, где я сижу, «гостиная», — крошечная, но выручают открытые раздвижные двери в столовую. Вся хозяйская мебель ужасна, кроме зеркала. Впрочем, оно лишь менее безобразно — продолговатое, в раме из красного дерева, украшенной двумя рядами резных листьев и цветов. Зеркальное стекло пересечено веткой с листьями, вырезанной из такого же дерева. Вероятно, мастер посчитал это удачной находкой. В зеркале я вижу себя за круглым столом с мраморной столешницей и железными ножками. Такие столы не раз попадались на глаза, когда я проходила мимо открытых дверей кафе. Я сижу на стуле с заплатами из красно-коричневого гобелена на изношенных местах обивки, откуда все равно проглядывает конский волос.
Занавески не задернуты. Иногда проезжают экипажи, или двуколки, что более подходяще для этого унылого места. Иногда слышно, как на неровной дороге спотыкаются лошади. Если смотреть из французского окна направо, то видно сад — крошечный дворик с кустами, которые и зимой и летом покрыты черно-зелеными листьями. Дом очень маленький, но в нем ухитрились разместить столько же комнат, как в домах приличных размеров. Вокруг все потрепанное, и оборванное, но вычурное, что меня просто злит.
В зеркале, в тусклом свете газового светильника, я вижу себя только до пояса. Узкое лицо, рыжие волосы, которые выбиваются из заколок и свисают на щеки свободными прядями. У меня синие глаза, Расмус таких и не видел — он говорил мне это до свадьбы и прежде, чем я узнала о пяти тысячах крон. Но, во всяком случае, вряд ли это было комплиментом. Синие глаза — не обязательно красивые, а мои уж точно. Слишком уж они синие, слишком яркие, такой цвет больше подошел бы павлину или зимородку. В точности, как крыло бабочки в брошке, которую я получила в подарок от тети Фредерике на шестнадцать лет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу