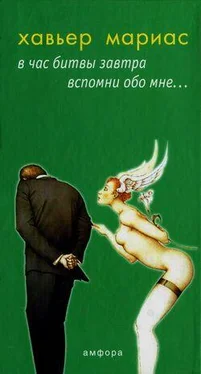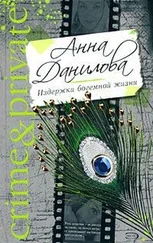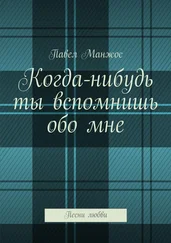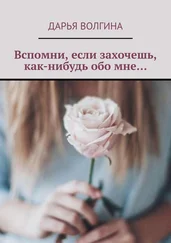В его взгляде не было ни презрения, ни гнева, ни насмешки, даже любопытством это назвать было нельзя – он словно пытался проникнуть в мою душу, пытался уловить что-то или в чем-то удостовериться. Он был очень высокий, и я смотрел на него снизу вверх – иногда режиссеры прибегают к такой съемке, Орсон Уэллс был большим мастером по этой части. Желтоватые раскосые глаза смотрели выжидательно и недоверчиво и вынуждали говорить (но я молчал), раздвоенный подбородок поднят, словно в ожидании моего ответа, и все складки и морщинки четко обозначились на его коже, которая скоро станет похожей (уже понемногу становится похожей) на кору дерева, на исцарапанную школьную парту.
Когда он наконец заговорил, б его голосе явственно зазвучало то же раздражение или напряжение, которое я почувствовал в нем накануне вечером, словно ровный огонь горел в нем целые сутки, с той минуты, как он повесил трубку, словно он все это время не спал, не ходил на работу, ни с кем не виделся, а всю ночь и весь день ждал меня, меряя шагами комнату, и лишь время от времени подходил к дверному глазку или с силой бил кулаком в ладонь, как боксеры перед боем или как (это мне рассказал один кинорежиссер) актер Джек Пэлэнс [37]на съемках – это помогало ему во время вынужденных перерывов сохранять нужное для его роли эмоциональное состояние. Другой знаменитый актер – Джордж Сэндерс [38]– с той же целью валялся в гамаке, положив руку под голову, и курил. Методы разные, а результат одинаково великолепный. Невозмутимый Сэндерс потом покончил с собой в Барселоне, оставив записку, в которой посылал всех к черту (ужасная смерть, иностранная смерть). «А вам оставаться тут», – было написано в записке. Джек Пэлэнс жив, кажется, до сих пор.
– Так значит, она не была одна, когда умирала? Или была одна? – сказал наконец Деан и сделал еще один глоток (казалось, он поднес бокал к губам только для того, чтобы закрыть им свои губы и сделать вид, будто спрашивает не он, будто это ничей голос или голос с экрана телевизора, хотя телевизор был выключен). По его тону нельзя было угадать, какой ответ он предпочел бы.
– Нет-нет, я был рядом с ней, Луиса вам уже сказала, – ответил я и тоже сделал глоток – тоже поднес свой бокал к губам, показывая, что закончил говорить.
– Ты помнишь ее последние слова?
«О боже, ребенок!» – вспомнил я и сказал:
– Она беспокоилась о малыше.
Деан провел рукой по щеке, словно в задумчивости.
– Да, конечно, малыш. Логично. А ты никому не позвонил и никого не известил. Тебе просто в голову не пришло. Это можно понять, правда? Можно понять.
Он все понимал или притворялся, что понимал. Прошло уже достаточно времени, чтобы он мог начать иронизировать.
– Послушайте, может быть, Луиса вам не сказала, но я вам звонил. – Я решил и дальше обращаться к нему на «вы», я не собирался оскорблять его ни словом, ни мысленно. Перейти на «ты» я всегда успею, если мне захочется. Воспоминание о Луисе подбодрило меня. – Я нашел ваш адрес – вы это знаете, Луиса об этом вам уже рассказала, – позвонил в ваш отель в Лондоне, хотя было очень поздно, но там мне сказали, что никакой Деан у них не проживает, на эту фамилию номер вообще не бронировался. Только потом мне пришла в голову мысль, что они могли зарегистрировать вас под вашей второй фамилией, как принято в Англии. Но позвонить во второй раз я в ту ночь не решился. – Я мог бы солгать, сказать, что второй фамилии я не знал (мне и первую-то знать было ни к чему), а потому и не мог позвонить во второй раз. Тогда ему не в чем было бы меня винить. Да и кого можно винить в том, что случилось? В этом нет ничьей вины. Наверное, именно поэтому я и не стал лгать. – И что я мог вам сказать? Подумайте сами, что я мог сказать? Казалось, его совсем не волновало то, что в тот вечер я был с Мартой (это я все время вспоминал про тот вечер), или просто у него было достаточно времени, чтобы успокоиться. Гнев уже улегся – ни к чему было его демонстрировать, ни к чему было притворяться.
– Что ты мог мне сказать? – переспросил он. – То же самое, что сказал бы мне, если б я был зарегистрирован в отеле под своей первой фамилией и тебя соединили бы со мной, когда ты позвонил в первый раз. Я был в номере, я снял бы трубку. – Он помолчал и добавил: – Ты еще не все знаешь.
«Ты нас не спас, – подумал я, – ни меня, ни ее».
– Я не назвался бы. В лучшем случае я сказал бы только: «Позвоните домой». Вы позвонили бы, и никто не снял бы трубку. Вы заволновались бы и послали кого-нибудь узнать, что случилось. А может быть, я ничего бы не сказал, просто повесил трубку, как сделал это на следующий день, когда назвал фамилию Бальестерос и меня соединили с кем-то.
Читать дальше