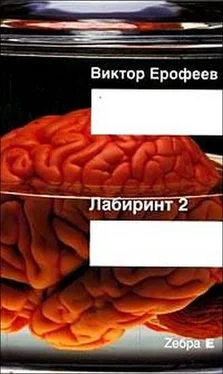«Вчера родилась у меня еще баллада — приемыш, т. е. перевод с английского, — писал о своей работе над балладой Саути Жуковский в частном письме. — Уж то-то черти, то-то гробы! Но это последняя в этом роде. Не думай, чтоб я на одних только чертях хотел ехать в потомство…»
Это признание во многом объясняет дальнейшее движение как русской, так и общеевропейской баллады. Всякая литературная школа исчерпывает себя. Всякий прием вырождается в штамп. «Черти» в конце концов перестали выглядеть символами, превращались в заезженный прием, к которому потянулись эпигоны.
Романтическая баллада после Жуковского могла существовать либо при обнажении ее приемов (которое могло получить ироническое или подчеркнуто стилизаторское значение), либо насыщаясь философским смыслом. Первый путь избрал Пушкин, второй — Лермонтов.
Пушкин никогда не был балладником в том смысле, в котором им был Жуковский: то есть он никогда не ощущал жанр баллады как близкий и адекватный своему умонастроению и эстетическим привязанностям. В балладах Пушкина почти всегда чувствуется отстраненность от жанра. Но это не значит, что «чужой» жанр нельзя творчески использовать. Его можно довести до чистоты, которая и не снилась балладникам, о чем свидетельствует «Песнь о вещем Олеге». Однако Пушкина больше привлекали иронические возможности стилизаторства. Ироническую ноту можно встретить и у Вальтера Скотта в балладе «Клятва Мойны», где торжественность девичьей клятвы иронически контрастирует с ее невыполнением, однако в пушкинских балладах «Утопленник» и «Жил на свете рыцарь бедный» ирония торжествует уже откровенно, хотя и не является самодостаточной. В «Утопленнике» решается традиционный балладный конфликт между «метафизикой» и «социальностью». Крестьянин, со своей «земной» смекалкой, сообразил, что с властями лучше не связываться, и отправил утопленника плыть дальше по реке, однако недоучел действия потусторонних сил: вечное возвращение утопленника, его зловещий стук «под окном и у ворот» составляют черты «жуткой» истории, которой, однако, поэт придает сниженный, полушутливый характер, введя балладу в несвойственный ей мир крестьянской среды и простонародного языка.
Конфликт земного и небесного развивается и в балладе «Жил на свете рыцарь бедный», только речь здесь не о справедливости, а о любви. Влюбленность рыцаря в Богоматерь чуть-чуть кощунственна, однако поэт делает вид, что не замечает опасной грани, и простодушное, наивное повествование венчает умильный «счастливый конец».
Дальнейшая линия иронического стилизаторства вела к прямым пародиям на жанр; их можно встретить у Козьмы Пруткова и Вл. Соловьева, которому принадлежат шуточные строки:
Рыцарь Ральф шел еле-еле,
Рыцарь Ральф в душе и теле
Ощущал озноб.
Ревматические боли
Побеждают силу воли.
(В этом двустишии, согласитесь, чувствуются интонации В.Высоцкого.)
И, пройдя версту иль боле,
Рыцарь молвил: «Стоп».
В балладном наследии Лермонтова мы также можем встретить шуточные стихи, взять хотя бы его «Балладу» 1837 года («До рассвета поднявшись, перо очинил…»), которая пародирует балладу Жуковского (точнее говоря, его перевод баллады В.Скотта) «Замок Смальгольм, или Иванов вечер», но не они определяют лермонтовскую сущность. В юношеских балладах Лермонтов черпает вдохновение у Жуковского, а также у немецких и английских романтиков; он создает свою собственную версию «Леноры».
Позднее Лермонтов освобождается от поэтики рыцарских баллад, отказывается от традиционных канонов, однако отнюдь не от самого жанра. Он смело расширяет тематические рамки баллады, из средневековья переносит ее действие на Восток, в русскую легендарную старину. Явно ощущая балладу как свой жанр, Лермонтов чувствует в нем себя свободно и уверенно, отчего не ограничивается стилизацией, получает творческое право на его трансформацию. Он углубляет и развивает философский подтекст баллады, достигая емкого лаконизма философской притчи, не утрачивая при этом непринужденной легкости повествования.
Баллада позволяет Лермонтову искать свое решение общественно-исторической, патриотической проблематики («Два великана»). В области лирической баллады он пишет такие шедевры, как «Русалка», где с бесконечной наивностью поведал о трагедии неразделенного чувства.
«Эта пьеса, — процитируем еще раз Белинского, — покрыта фантастическим колоритом и по роскоши картин, богатству поэтических образов, художественности отделки составляет собой один из драгоценнейших перлов русской поэзии».
Читать дальше