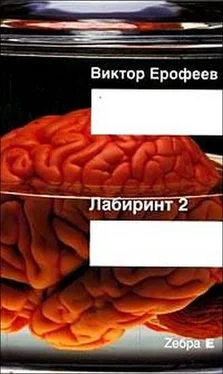Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук…—
так писал австрийский поэт Цедлиц в балладе «Воздушный корабль», которая известна нам всем с детства в переводе Лермонтова. Отметим значение любовной баллады — это один из наиболее распространенных видов баллад, причем речь, как правило, идет о несчастной любви.
С появлением реализма в XIX веке баллада волей-неволей подчиняется новому «закону» и приобретает черты произведения социального. Пример тому — баллада Э.Гейбеля «Данте», в которой социальный мотив торжествует над метафизикой: печаль и гнев Данте автор объясняет не тем, что певец нисходит в ад, а тем, что:
Все горе, воспетое мною, все муки, все язвы страстей
Давно уж нашел на земле я, нашел их в отчизне моей!
В откровенно социальном ключе решена баллада Г.Гервега «Бедный Яков», в которой тема смерти героя имеет разоблачительный смысл:
У нас обычно небо чтут,
Гнездо уютное свивая.
Долги народу отдают,
Как векселя под кущи рая.
В России опыт «современной», социальной баллады встречается у Некрасова («Секрет»). Порой реалистическая баллада получала и непосредственно политическое звучание, становилась памфлетом, свидетельство чему мы находим в балладе И.С.Тургенева «Крокет в Виндзоре»: крокетные шары превращаются в глазах английской королевы в обрызганные кровью головы болгарских жертв турецкого ига. Баллада имеет публицистическую концовку в духе концептуализма:
— Нет, ваше величество! Вам уж не смыть
Той крови невинной вовеки!
Здесь, однако, следует говорить об использовании жанра, а не о его развитии. Баллада по своей природе избегает однозначности. Что хотел сказать Гёте в «Лесном царе»? Ведь не то, чтобы не ездили ночью по лесу с детьми верхом на лошадях! Разве это конкретный призыв к осмотрительности? Баллада — жанр по преимуществу двусмысленный. Вот почему, когда в Европе начала подниматься волна символизма, баллада стала вновь возрождаться, ее образцы встречаются и во французской поэзии конца XIX века, и в русском символизме (Бальмонт, Брюсов, Сологуб). Однако при всех достижениях символизма в области баллады нельзя не признать, не заметить, что символистское обращение к рыцарскому средневековью принимает порой искусственный характер, «наивность» баллады исчезает из-за чрезмерной эксплуатации символа. Баллада оказывается стилизацией стилизации, «второй свежести» по сравнению с ее романтической порой.
Гёте принадлежит мысль, что баллада — синтез трех начал: эпического, драматического и лирического. Этот синтез нельзя считать неподвижной моделью. Напротив, в балладе заметно скорее соревнование всех трех начал: то одно, то другое, то третье занимает главенствующее место и затем утрачивает его в зависимости от развития действия. Вместе с тем существуют баллады, где один из элементов в целом развит больше других. Тогда баллада принимает черты или эпического произведения, или драматического диалога, или лирического стихотворения. Так, «Лесной царь» близок драматическому произведению в силу значения, которое имеет в ней диалог:
— Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?
— Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул;
Он в темной короне, с густой бородой.
— О нет, то белеет туман над водой.
К этому диалогу добавляется прямая речь лесного царя, которая принимает характер не то внутреннего голоса, не то слуховой галлюцинации. В переплетении разных по своей природе голосов и возникает неповторимый сюжет баллады. Образцом эпической баллады считается «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, построенная как стилизованное воспоминание об исторической легенде («Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они…»), хотя диалог также играет в ней структурную роль.
Лирические баллады — приоритет Лермонтова.
В зависимости от тяготения баллады к тому или другому началу меняется всякий раз роль автора. То он полностью исчезает (все центральные строфы «Лесного царя»), то принимает роль сопереживателя (тогда баллада приобретает лирические интонации). Чем ближе автор миру баллады, тем она лиричнее.
Сестра таланта — краткость — суть баллады. Если поэма многоречива и обстоятельна, то баллада, напротив, похожа на скрученную пружину, зажатую между завязкой и развязкой. Краткость размера ограничивает эпические «претензии» баллады. Она сообщает лишь о самом главном, отказывается от деталей, заботится об экономии фабульного материала, сосредоточивает внимание читателя вокруг решающего момента. Такая экономия ведет к фрагментарности балладной композиции.
Читать дальше