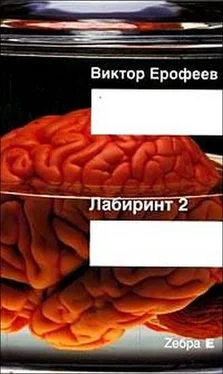Куда более свободный выбор у читателя «Леноры», который может прочесть балладу как простую сказку о призраках и как притчу о недозволенности богоборчества, даже если оно проявляется в самых наивных формах, и как повествование о бесконечной сложности понятия справедливости. Внешне эта баллада архаична и наивна, но внутренне насыщена заковыристым смыслом. Вот этот сплав наивности и изысканности, простоты и сложности, примитива и высокой культуры, архаичности и современности — сплав полярных начал и создает особый климат литературной баллады.
Жених Леноры не вернулся с войны, пал жертвой «монархов вражеских держав». Ленора убита горем. Вместо того чтобы смириться с несчастьем, как ей подсказывает осторожная мать, Ленора бунтует. Но она метит не в монархов, а выше, предъявляет счет за убитого жениха не королю Фридриху, а Богу — адресат выбран на том основании, что именно ему молилась Ленора о возвращении жениха. Встав на богоборческий путь, Ленора перестала ходить в церковь, создала свое представление о рае и аде:
О мать, на что мне светлый рай,
Что для меня геенна!
Где мой Вильгельм — там светлый рай,
Где нет его — геенна.
Мертвый Вильгельм приезжает за своей невестой и увозит ее в могилу. Он — исполнитель высшей воли, жестокого приговора. За свое «преступление» Ленора понесла страшное наказание, причем обезумевшая девушка не сразу поняла, что происходит, обозналась, не увидела в Вильгельме мертвеца, о чем говорит зловещий рефрен:
— Красотка, любишь мертвых?
— Зачем ты все о мертвых!
Так богоборчество грозит безумием и смертью:
И вой раздался в тучах, вой,
И визг из пропасти глухой,
И, с жизнью в хищном споре,
Приникла смерть к Леноре…
При этом, венчая балладу и подводя моральный итог, хор скорбных духов «воет» песню терпения и смирения:
Терпи! Пусть горестен твой век,
Смирись пред Богом, человек!..
Балладный сюжет оказался значительнее страшного случая. Размышляя о философском смысле баллады, можно заметить, что он далеко не однозначен. Видимо, преображение народного сюжета в философский символ и составляет основу поэтики литературной баллады. Неразрешимое, в сущности, противоречие между земной и небесной справедливостью предопределяет трагическую философию баллады Бюргера. Однако это не значит, что Бюргер разделяет призыв скорбных духов к смирению. Он лишь свидетельствует о неразрешимости противоречия.
Выходит, балладу можно читать по-разному. И как развлекательное произведение, щекочущее нервы, и как жуткую, философскую притчу. Причем автор баллады не призван ответить на все поставленные вопросы. Он — в тени, как бы вытеснен из баллады своими персонажами, и на любой вопрос, обращенный к нему, может ответить: «Это не я. Это они».
Вместе с тем поэт романтической баллады изначально знает то, чего не знали или не хотели знать поэты ни классицизма, ни рококо. Он знает: мир многолик и гораздо более сложен, чем принято думать, ибо силы человека, открывшиеся в Ренессансе и воспетые Просвещением, не всегда дают ему возможность стать хозяином своей судьбы.
В балладе сильные стороны человека, не боящегося бросить вызов небесам, уравновешены его слабостью. В этом есть что-то по-человечески привлекательное.
В сущности, любая романтическая баллада представляет собой стихотворение с роковым сюжетом. Так прочитывается и «Лесной царь» Гёте. Сюжет этой баллады менее развернут, чем в «Леноре», но ее философская емкость поистине уникальна. В «Лесном царе» происходит скрытый зловещим, но внешне наивным сюжетом вековечный спор жизни со смертью, надежды с отчаянием. Это прорыв за «невидимый» пласт жизни, в неведомый мир лесного царя. Охота смерти за жизнью и красотой, воплощенными в образе младенца, грозит уничтожением:
Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой. [142] Русский перевод В.Жуковского конгениален оригиналу.
Возможности баллады оценили поэты не только Германии и Англии. Этот жанр возродился к творчестве французских романтиков (хотя в такой стране классицизма, как Франция, этот антиклассицистский жанр прививался с трудом), им увлекались скандинавские поэты и поэты Америки. Баллада пользовалась популярностью и в славянских странах. У.Блейк сохранил за балладой возможность мистических углублений. Беспокойный характер Байрона придал его балладам общественно-исторический смысл. Река европейской баллады дробилась на множество рукавов, тематически создавалась очень пестрая картина. Возникла героическая баллада, прославляющая подвиг и непримиримость к национальному врагу, что видно на примере «Верескового меда» Стивенсона. С ней перекликается баллада «Белое покрывало» М.Гартмана, повествующая о матери, обманувшей своего сына ради того, чтобы он мог умереть героем. Мицкевич, естественно, тоже вложил в баллады патриотическое содержание. В исторической балладе воскресли легендарные фигуры, от Валтасара до Наполеона:
Читать дальше