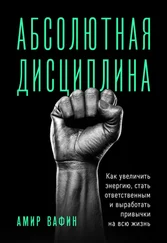Старшина замолчал, раскуривая папироску. Я заметил, как дрожали его руки. Глубоко вздохнув, он продолжил:
— На спине у Василия кровавое пятно, осколком его сразу насмерть. Подняли мы его, а мальчишка, немец-то, живой. Гришака схватил автомат, передернул затвор и со слезами и злобой — на мальчишку...
— Фашистский гаденыш!
Тимка толкнул его, очередь выше прошла. Пацаненок перепугался и реветь.
— Не надо, Гришатка, Василь бы так не сделал, — сказал Тимка.
Гришака бросил автомат, сел на землю и зарыдал. Тут из дома немка выбегает, нас завидела, остановилась.
— Пауль! Пауль! — позвала она сына.
Потом подбежала и схватила его.
Похоронили мы Василия на берегу озера. Ванюшка упал на холмик, заплакал. Его Василь больше всех любил, жалел. Подняли мы его. Он в Тимку уткнулся и повторяет одно и то же:
— Васька, ну как же так? Васька, ну как же так?
Дали мы салют в память о боевом товарище, попрощались с ним и поклялись, что, если будем живы, все вместе придем на его могилу. Сестренку его с мамой найдем. Потом мы еще дней пять шли и вышли на своих. Они нас поначалу за «гитлер-югент» приняли, а как Гришатка матом начал их поливать, перестали стрелять.
— Пацаны, русские, наши!
— Да, русские мы, ош твою через тудрит да в зад, глаза обморозили вояки, — не унимался Гришатка.
Нас отмыли, накормили, одели в солдатское. Оружие, конечно, отобрали. Просились мы с ними, да куда там, не взяли: «Вы, — говорят, — свое отвоевали, мы теперь фрицам за вас покажем, ош твою».
Посадили нас в машину и на восток — домой, а там поездом. Пожили в детприемнике, воспитатели как увидели у нас номера на руках, заохали, кормили нас получше. После — кого куда. За Ванюшкой мать приехала. Тимку отец-летчик забрал, Леньку с Семкой — в детдом, Гришатку в суворовское — он песни хорошо пел. Мишку на Урал повезли, а меня вот — домой. Тут я мать и нашел. После войны нашел я и маму Василя с сестренкой, живы оказались. Как мне ни трудно было, рассказал я им, как погиб Василь — наш друг.
— Вот так-то, Никита! Ты вот что, надежду не теряй, все образуется, тезка. — Он поднялся, посмотрел в окно.
За окном рассветало. Занималось утро.
— Однако утро уже, да и автобусы вроде пошли, пора вам!
— А к Василию вы потом ездили? — спросил его Никита
— Да, встретились мы: Тимур, Ванька, Семка и Ленька. Только Мишку мы не дождались, сгинул он в лагерях, только уже среди наших. И Гришатку мы не увидели. Погиб от взрыва, когда бомбу доставал. Нашли мы ту могилку и не узнали ее. Ухоженная, цветы живые.
Мы поначалу растерялись. Подошел к нам немец, представился. Паулем зовут. Тут-то мы и сообразили. Запомнил, выходит, своего спасителя. У могилы Василия мы с ним по-русски помянули друзей своих, чье детство выпало на войну. Вот так-то вот. Ну что, прощаться будем?!
Нам было грустно расставаться с этим удивительным человеком. За эти часы как-то породнились.
— Будете в наших краях — заезжайте, — сказал мне на прощанье старшина.
Стали прощаться. Пожимая руку Никите, он вдруг задержал ее в своей ладони и, указав на татуировку, сказал:
— Зря ты это, паренек, дурная это память. Моя-то со мною до конца, — и он показал руку, на которой синели цифры. — В добрый путь!
Зазвонил телефон, он поднял трубку: начинался новый день милицейских буден, а мы поспешили к автобусу.
* * *
— Вы потом не заезжали к нему? — спросил Никита.
— Эх, жизнь наша! Бежим и не замечаем, как пробегаем мимо чьей-то судьбы, таких-то вот людей, мимо чего-то дорогого и близкого. Теряем родных, близких, друзей. Так недолго и себя потерять. Не по-людски это! Озлобились в своем безверии, сидим в своей скорлупе, лишь бы выжить. Не жизнь получается, а борьба за выживание. Сквозь злобу ничего не видим. Ох, как бы потом не обожгло совесть! Стыдно ведь! Если бы ты знал, Никита, как меня жжет внутри! Стыдно, стыдно, Никита.
— Ну, мне пора, — встрепенулся парень, — через полчаса отправка. А хорошо, что я зашел к вам: на душе так хорошо стало, полегчало вроде.
Он протянул мне руку. Я присмотрелся. Там, где была татуировка, остались рубцы на розоватой коже.
— Ты хоть напиши, Никита, — попросил я.
— Извините, но я не люблю писать. Лучше вот так поговорить, — оправдался он.
— Ну, тогда держись! — пожелал я.
— Чего-чего, а драться за себя на запретках, вроде этого приемника, научили так, что отобьемся и пробьемся.
Мы попрощались у ворот. Я стоял у окна и сквозь решетку смотрел, как Никита скорым шагом шел по заснеженной улице. Вот он остановился и помахал мне рукой.
Читать дальше
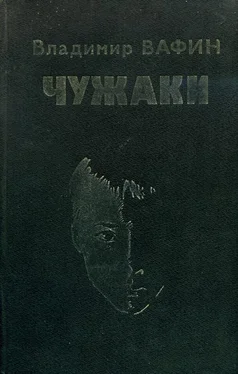




![Юрий Вафин - Говорит Вафин [litres]](/books/410003/yurij-vafin-govorit-vafin-litres-thumb.webp)