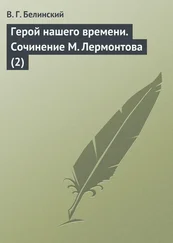— Кр-ра-а! Кр-ра-а! Кр-ра-а!…
Вдруг (откуда-то из памяти детства, казалось, начисто позабытое) Андрей Иванович вспомнил, как учат клевать цыплят, — и даже вспомнил, откуда он знает это: из “Веселой семейки” Носова, — и это воспоминание секундно согрело его… Он опустился на корточки, согнул указательный палец крючком и, осторожно опустив руку в коробку, постучал ногтем по дну. Птенец даже ухом не повел и продолжал кричать, но уже не так громко, как раньше, — хрипловато и жалобно… “Цып-цып-цып, — стыдясь, прошептал Андрей Иванович, продолжая стучать. — Цып-цып-цып-цып-цып…Ешь, черт тебя подери! Ешь, проклятая птица!” Вороненок не ел; делать было нечего: Андрей Иванович захватил щепотью несколько кусочков яйца и нацелился в младенчески-розовый зев открытого клюва… птенец катапультно выстрелил головой, захлебнулся криком и буквально нанизался на щепоть Андрея Ивановича, заглотив его пальцы чуть не до третьих фаланг: глотка его была горячая, влажная, нежная… Андрей Иванович осторожно вытащил пальцы; птенец ожесточенно затряс головой, заглатывая куски и при этом совершенно по-собачьи отрывисто взлаивая:
— Гау-гау-гау-гау-гау!…
Всё яйцо исчезло — провалилось в блестящую розовую воронку — за полминуты: хватило бы и нескольких секунд, но Андрей Иванович просто не мог быстрее давать. Птенец скрипуче квакнул, надулся, втянул голову в плечи — превратился в пушистый, несколько примятый сверху и снизу шар — и обессиленно задернул глаза голубоватыми шторками. Андрей Иванович оперся локтями на парапет и с облегчением закурил: ему как будто передавалось волнение изголодавшегося птенца, и, пока тот не успокоился, он сам непонятно нервничал.
Докурив, Андрей Иванович вернулся в комнату и уже хотел было закрыть балконную дверь… но неожиданная мысль остановила его. Он вдруг смутно подумал (даже не подумал — почувствовал, как будто речь шла о нем самом), что за закрытой дверью птенец останется совсем один: один на крохотном выступе в стене огромного, как скала, тысячеоконного — тысячеглазого — дома, над пропастью ревущего двигателями и голосами двора, безнадежно, обреченно отрезанный от… от него, Андрея Ивановича — единственного человека и вообще существа на свете, которое может ему помочь… Подумав и почувствовав так, Андрей Иванович оставил балконную дверь открытой.
Надо было идти к гостям — о чем-то говорить, что-то отвечать, улыбаться: нет хуже муки, чем улыбаться, когда хочется выть. А как он стремился домой — в одиночество, в тишину… да что же это за издевательство такое?! Впрочем, возня с птенцом, как ни странно, немного его успокоила, и прежние тягостные мысли и чувства еще не успели возвратиться к нему во всей своей полноте; кроме того, ему страшно хотелось есть — по приходе домой его голод, заглушаемый бесконечным чаем с сухариками и табаком, всегда прорывался. Ну и что ж — он пришел с работы, ему хочется есть, он будет сидеть и есть, а они… пусть говорят. Андрей Иванович вздохнул и вышел из комнаты.
— Ну наконец-то, — сказала Лена, жена Евдокимова; Евдокимов, благожелательно широко улыбаясь, смотрел на него.— Накормил ворону-то? Ты прямо как кормящая мать.
Евдокимова громко, жизнерадостно засмеялась, подпрыгивая грудью и наливными плечами. Она была жгуче-черноволосой, жгуче-румяной, с высокой, даже как-то зримо тяжелой грудью, одета как всегда в яркие — красные, желтые, — тропического колорита цвета; раньше, глядя на нее, особенно ее пышную грудь, Андрей Иванович, стыдясь, иногда волновался, — сейчас ему было всё равно… Он кривовато улыбнулся и неловко развел руками — и пошел на свободный стул.
— Тебе положить салат? — спросила Лариса.
— Да, пожалуйста…
Справа от него подмигивал раздражающе-яркими красками и приглушенно воркотал телевизор. Сидящая рядом с Ларисой Настя неотрывно смотрела на него. Андрей Иванович тоже посмотрел. В телевизоре убивали: уродливые брюхатые вертолеты сновали над дымящимся гjродом, выпуская лучи ракет. Там, куда падал луч, вспыхивали красные звезды. Потом на экране появился узкий бледный человек с лягушачьим лицом — один из тех, кто начал эту войну, и что-то энергично забормотал. Андрей Иванович почувствовал такую ненависть, что у него дрогнули руки. Он подумал, что если бы он был террористом — то есть умел стрелять, подрывать,— он бы убил этого человека; для этого ему надо было только уметь взрывать и стрелять — убить, казалось ему, он был готов…
Читать дальше