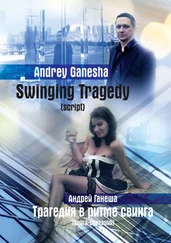— Вот бы я была такой чистой! — объявила Хава, мило вздохнув. — Ой, ой… хорошо быть чистой — наверное!
— Ну конечно , хорошо, — нахмурился Ламин. — Мы все стараемся исполнять джихад, каждый день по-своему, насколько можем. Но для этого не нужно обрезать себе брюки и оскорблять свою бабушку. Муса одевается, как индиец. Нам тут этот заграничный имам не нужен — у нас свой есть!
Мы подошли к воротам школы. Хава оправила на себе длинную юбку, сбившуюся на ходу, чтобы та снова ровно сидела на бедрах.
— А почему у него такие брюки?
— О, в смысле — короткие? — тускло ответила Хава — был у нее этот дар, заставлять меня чувствовать себя так, будто я задала самый очевидный на свете вопрос. — Чтоб ноги в аду не горели!
В тот вечер, под исключительно ясным небом я помогла Ферну и бригаде местных добровольцев расставить триста стульев и возвести над ними белые навесы, поднять на столбы флаги и написать на стене «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭЙМИ». Сама Эйми, Джуди, Грейнджер и девушка-пиарщица спали в гостинице в Банджуле, вымотавшись за перелет — или при мысли о розовом доме, кто знает. Вокруг повсюду говорили о Президенте. Мы терпели одни и те же шуточки: насколько много нам известно, или сколько, по нашим утверждениям, мы не знаем, или кто из нас двоих знает больше. Эйми никто не упоминал. Из всех этих лихорадочных слухов и контр-слухов я никак не могла вычислить одно: визита Президента желают или опасаются. То же самое, объяснил Ферн, пока мы вгоняли в песок жестяные ножки складных стульев, когда слышишь, как на город надвигается буря. Если даже ее боишься, тебе все равно любопытно посмотреть.
Рано поутру мы с отцом были на вокзале Кингз-Кросс, в очередной раз в последнюю минуту ехали смотреть университет. Мы только что опоздали на поезд — но не потому, что задержались сами, а потому, что цена билета вдвое превышала ту, о которой я предупреждала отца, и пока мы спорили, что делать дальше: один из нас едет сейчас, а другой позже, или оба не едем, или оба едем в другой день, не в час пик с его особыми тарифами, — поезд отошел от перрона без нас. Мы по-прежнему нервно рявкали друг на друга перед доской объявлений и тут увидели Трейси — она поднималась на эскалаторе со станции подземки. Ну и зрелище! Белые джинсы без единого пятнышка, маленькие сапоги по щиколотку на высоком каблуке, черная кожаная куртка в обтяжку, застегнутая на молнию до подбородка: все это походило на рыцарские доспехи. Настроение у моего отца переменилось. Он вскинул обе руки, словно авиадиспетчер, сигналящий самолету. Я смотрела, как Трейси подходит к нам как-то зловеще формально, с чопорностью, которой отец мой не заметил — обнял ее, как в старину, не обратив внимания на то, как окаменело ее тело рядом, как замерли поршни-руки. Он отпустил ее и спросил о родителях, о том, как она проводит лето. Трейси выдала ему череду бескровных ответов, не содержавших, на мой слух, никаких настоящих сведений. Я заметила, как на его лицо опустилась тень. Не от того, вообще-то, что она ему говорила, а от той манеры, в какой все это излагалось: в ее новехоньком стиле, что, казалось, ничего общего не имел с необузданной, потешной, мужественной девчонкой, которую, казалось ему, он знал. Манера принадлежала совершенно другой девушке, из другого района, другого мира.
— Что они преподают тебе в этом чокнутом месте, — спросил он, — уроки красноречия?
— Да, — строго ответила Трейси и задрала нос: ясно было, что ей хотелось на этом с темой покончить, но отец мой, кому намеки никогда не давались, не отпускал. Все время посмеивался над ней, и, чтобы защититься от его насмешек, Трейси теперь начала перечислять все навыки, какие у нее вырабатываются на летних занятиях пением и фехтованием, бальными танцами и театральным мастерством, — навыки, не особо нужные в районе, но необходимые человеку для того, чтобы выступать, как она это сейчас называла, на «сцене Уэст-Энда». Я задумалась, но не спросила, как она все это оплачивает. Пока она мне тараторила, отец мой стоял, пялясь на нее, а потом вдруг перебил.
— Но ты же не всерьез, правда, Трейс? Хватит уже про все это — тут же мы, больше никого. Нам не надо пыль в глаза пускать. Мы тебя знаем, мы с тобой знакомы с тех пор, как ты вот такусенькой была, перед нами не надо делать вид, будто ты какая-то фифа! — Однако Трейси разгорячилась, говорила она все быстрее и быстрее — этим своим забавным новым голосом, которым, быть может, надеялась произвести на моего отца впечатление, а не оттолкнуть его, и сама этим голосом еще толком не владела — через фразу неестественно отклонялась к нашему с ней общему прошлому и рывками перемещалась в свое таинственное настоящее, пока мой отец совершенно не перестал собой владеть и не заржал над ней посреди вокзала Кингз-Кросс, перед всеми пассажирами в час пик. Он ничего плохого в виду не имел, просто ничего не понял — но я-то увидела, как ее это задело. Однако, к ее чести, Трейси не утратила своего знаменитого самообладания. В восемнадцать она уже была знатоком свойственного женщинам постарше искусства растравления ярости, сохранения ее, чтобы применить позже. Она учтиво извинилась и сказала, что ей пора на занятия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу