Бог создал мир, ваше преосвященство, посмотрел на него и увидел, что это хорошо весьма. [60] Книга Бытия, 1, 31.
Еще бы. А ну как мир вы тоже на него посмотрел, проверяя: хорош он или нет? Вот, по-моему, чем Люцифер досадил Богу: тот почувствовал, что его разглядывают критическим оком. Хорош ли он? Я — я был невинен, как сам Бог. А из меня решили сделать истинного Йохаима Герсдорфа. В моих жилах текла кровь этого человека, законодателя моды, человека, который прикобывал к себе взоры. Бог не мог такого вынести. Он, как вы, разумеется, помните, швырнул Люцифера в пропасть, для острастки и с глаз долой. Бог был совершенно прав. Он, в своем положении, не обязан был такое терпеть. Для меня это тоже было непереносимо, но — что прикажете делать…
Чтобы увериться окончательно, правду ли говорил Расмус, я совершил смелый, даже, я думаю, геройский поступок, доказавший мне самому, что шкипер с женою дали мне хорошее воспитание. Я отправился в пышное собрание у графини Даннескьёл и снова там пел. Я пел мои прежние песни, я слушал мой собственный голос, то, верней, что от него осталось. Тот, кто сейчас меня слышит, легко поймет, что это было за представление. Когда прежде я пел для них, я старался по мере сил, мне казалось, что я дарил им все лучшее, что во мне было. Когда я пел им сейчас, ни на одном лице не выразилось ни разочарования, ни печали. Меня, как прежде, все расхваливали наперевой, все были милы со мною — жестокие сердца! И я понял, что никогда я им ничего не дарил, никогда я не доставлял им никакого удовольствия. Свет за мной наблюдал и решал, как со мной поступить. Все взоры были прикованы ко мне, ибо я был истинный Йохаим Герсдорф, юный законодатель моды. Я ушел домой в полночь, и этоттто час, ваше преосвященство, вспомнился мне, когда рухнул амбар.
В ту же ночь я написал барону прощальное письмо. Я испытывал такой ужас, такое отвращение к нему и ко всему, что его окружало, что, перечитывая письмо, я нашел в нем девять раз повторенное слово „мода“. Я просил Расмуссена передать мое письмо барону. Когда он уходил, я спохватился, что ни словом не помянул состояние, которое барон намеревался мне оставить. Я попросил друга на словах передать мой решительный отказ.
Вид городских улиц сделался мне несносен. Оставя прелестные свои комнаты в соседстве дворца Герсдорфа, я переправился в лодке на островок Трекронер и нанял себе там у квартирмейстера помещение, из окон которого видна была только вода. Расмус меня провожал и нес мой портплед. Все время пытался он меня удержать. Путь наш лежал мимо дворца Герсдорфа, и при виде него такое омерзение вдруг охватило меня, что я запустил в его дверь метким плевком из тех, каким мой отец — ах, прошу прощенья, шкипер Клемент Мэрск, — обучал меня в детстве.
Несколько дней я жил на островке, стараясь обрести прежнее ощущение мира, но не себя самого, ибо я сам себе стал не нужен. Я думал про сад в Ассенах, но он для меня был навеки закрыт. После того, как ты вкусил от древа познанья и увидел себя самого, все сады для тебя закрыты. Ты делаешься законодателем моды, как сделались даже Адам и Ева, когда занялись своею наружностью.
Но не прошло и нескольких дней, как Расмус нанес мне визит. Он для этого воспользовался яликом — это он-то, смертельно воявшийся моря.
Ну, дружище, — сказал он, потирая руки. — Ты родился под счастливой звездой. Я передал твое письмо барону, и он остался им чрезвычайно доволен. Он вскочил, ходил по комнате взад-вперед, приговаривал: „Боже! Какая мизантропия! Какая черная меланхолия! Как мне все это знакомо! Вылитый я! В первые недели, как я стал любовником императрицы Екатерины, я все это испытал. Хотел в монастырь уйти. Да, это тот же молодой Йохаим Герсдорф, только выполненный в черном цвете, — гравюра с красочного оригинала. Но, великий Творец, сколько силы в мальчишке, какой прекрасный, глубокий, густой черный тон! вот не думал я, меня свивал этот его голос. Это же зимняя русская ночь, это вой голодных волков в степи“.
Перечтя твое письмо, он сказал: „А, так он не желает быть законодателем моды? Но таковы мы все, Герсдорфы, таков был мой отец при дворе молодой императрицы. Отчего же и сыну моему не быть тем же? Разумеется, он будет наследником нашим — законодатель вкусов и приличий, их зеркало“.
Я должен тебе сообщить, — сказал Расмус, — что твоя черная меланхолия сейчас последний крик моды. Модные юноши в Копенгагене одеваются нынче в черное и с печалью беседуют о жизни и любви, а модные жены рассуждают о гробах.
Читать дальше





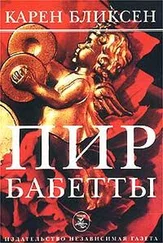

![Росс Монтгомери - Ужин начинается в полночь. Семь жутких историй [litres]](/books/430951/ross-montgomeri-uzhin-nachinaetsya-v-polnoch-sem-zhu-thumb.webp)




