XIV
Всякий день по аллее парка в одно и то же время идет Бианка со своей гувернанткой. Что сказать о Бианке, как ее описать? Я знаю лишь, что она безупречно и чудесно соответствует сама себе, до конца осуществляя свою программу. С охваченным глубокой радостью сердцем я всякий раз вижу, как с каждым шагом — легкая, точно танцовщица, она входит в свою сущность, как безотчетно угадывает каждым движением в самоё суть.
Она идет совсем обыкновенно — не с преувеличенной грацией, но с простотою, берущей за сердце, и сердце замирает от счастья, что можно вот так просто быть Бианкой, безо всяких уловок и без какого-либо усилия.
Однажды она медленно вскинула на меня глаза, и мудрость этого взгляда проникла меня насквозь, пронзила навылет, как стрела. Я понял тогда, что ничто от нее не скрыто, что она с самого начала знает все мои мысли. С этого момента я предоставил себя в ее распоряжение безгранично и безраздельно. Она приняла это едва заметным взмахом век. Все произошло без слова, на ходу, в одном взгляде.
Когда мне хочется ее вообразить, достаточно вызвать в памяти только одну ничего незначащую деталь: ее шершавую, как у мальчика, кожу на коленках, и это уже так трогательно и уводит мысль в мучительные тропинки несоответствием осчастливливающих антиномий. Все остальное, что выше и ниже, трансцендентально и непредставимо.
XV
Сегодня я опять погрузился в альбом Рудольфа. Что за удивительные штудии! Текст этот полон ссылок, аллюзий, намеков и многозначительного перемигивания. Однако все линии сходятся к Бианке. Что за счастливейшие догадки! От узла к узлу, как по запальному шнуру, все более завораживаясь, бежит мое подозрение, подожженное сияющей надеждой. Ах, как мне тяжко, как стеснено сердце тайнами, которые предчувствую.
XVI
По вечерам в городском парке каждодневно теперь играет музыка и по аллеям движется весенний променад. Гуляющие кружат и возвращаются, минуются и встречаются в симметричных, непрестанно повторяемых арабесках. Молодые люди в новых весенних шляпах небрежно держат в руке перчатки. Сквозь деревья и живые изгороди светятся в соседних аллеях платья девушек. Ходят девушки парами, покачивая бедрами, взбитые пеной воланов и оторочек, неся, как лебеди, эти розовые и белые взбитости — колокола, полные цветущим муслином, и, случается, усаживаются ими на скамейки, словно бы утомленные своим пустым парадом, усаживаются всею огромной розой газа и батиста, и она лопается, шевеля лепестками. И тогда открываются ноги, заложенные одна на другую и перекрещенные — сплетенные в белую форму, исполненную неотразимой выразительности, а молодые фланеры, проходя мимо, смолкают и бледнеют, потрясенные верностью аргумента, окончательно убежденные и побежденные.
Близится вечер, и цвета мира делаются прекрасней. Все краски встают на котурны, становятся праздничны, пылки и печальны. Парк быстро наполняется розовым лаком, какой употребляют в живописи, сияющим лаком, от которого предметы сразу делаются иллюминованными и очень цветными. Но и в красках этих возникла какая-то слишком глубокая лазурь, какая-то слишком яркая и оттого сомнительная красота. Еще миг — и чащоба парка, едва подернутая молодой зеленью, прутяной еще и голой, вся насквозь озарится розовым часом сумерек, подбитым бальзамом прохлады и пропитанным невыразимой печалью вещей, вечно и смертельно прекрасных.
Тут весь парк сразу становится, как огромный молчащий оркестр, торжественный и сосредоточенный, ожидающий под вознесенной палочкой дирижера, когда музыка дозреет и вздуется половодьем, но внезапно над огромной этой вероятной и пылкой симфонией опускаются поспешные и цветные театральные сумерки, как если бы под воздействием назревших во всех инструментах звуков вдруг где-то высоко пронизал молодую зелень голос иволги, укрытой в зарослях, — и внезапно вокруг делается торжественно одиноко и поздно, словно в вечернем лесу.
Едва ощутимое дуновение проходит по вершинам дерев, содрогание которых осыпает сухой налет черемухи — несказанный и горький. Высоко над меркнущими небесами пересыпается и плывет безбрежным вздохом смерти этот горький аромат, в который первые звезды роняют свои слезы, сорванные с этой бледной и лиловой ночи, точно чашечки сирени. (Ах, я знаю: ее отец — судовой врач, ее мать — квартеронка, и ее ожидает из ночи в ночь у пристани маленький темный речной пароход с колесами по бокам, и не зажигает огней.)
Читать дальше
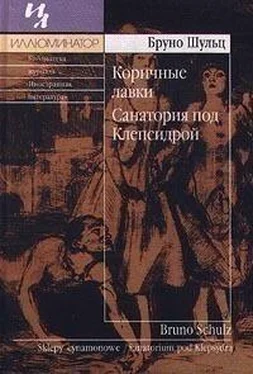


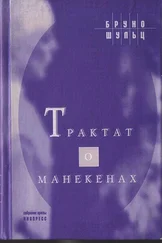



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


