Потом горизонт вдруг хмурится, как перед вешней бурей, лишь ярко блестят инструменты оркестров, и в тишине рокочет ворчание темнеющего неба, гул далеких пространств, меж тем как из ближних садов сосредоточенными зарядами плывет запах черемухи и беззащитно разряжается несказанными волнами.
XIII
В один из последних дней апреля предполуденная пора была серой и теплой, люди шли, глядя под ноги — всегда в квадратный метр влажной земли перед собой, и не ведали, что минуют по сторонам парковые деревья, черно разветвленные, лопающиеся где попало сладостными растравленными ранами.
Угодившее в черную ветвистую сеть деревьев серое душное небо давило людям на плечи — заверченное, нагроможденное, бесформенно тяжкое и, точно перина, огромное. Люди в теплой этой влажности выкарабкивались из-под него на руках и ногах, точно майские жуки, исследующие чувствительными усиками сладкую глину. Мир лежал глухой, разворачивался и рос куда-то вверх и — позади где-то и в глубине блаженно бессильный — плыл. Временами он медлил и что-то мглисто вспоминал, ветвился деревьями, ячеился густой сияющей сеткой птичьего щебета, накинутой на день бесцветный, и уходил в подземное змеение корневищ, в слепую пульсацию червей и гусениц, в глухое помрачение чернозема и глины.
А под бесформенной громадой приседали оглушенные и без мысли люди, приседали с головами в руках, свисали, скорченные, с парковых скамеек с лепестком газеты на коленях, из которой текст уплыл в огромное серое безмыслие дня, нелепо свисали во вчерашней еще позе и бессмысленно слюнявились.
Возможно, их оглушали немолчные погремки чириканья — неутомимые маковые головки, сыплющие серую дробь, которою тмился воздух. Под градом этим свинцовым люди ходили сонные и в обильном ливне объяснялись жестами либо, отрешенные, молчали.
Но, когда где-то, в некоей точке пространства, около одиннадцати утра сквозь большое напухшее тело туч проклюнулось бледным ростком солнце, в ветвистых корзинах дерев густо вдруг засветились все почки, и серая вуаль чириканья медленно отошла бледно-золотой сеткой с лика дня, который открыл глаза. И это была весна.
Тогда вдруг, в единый миг, пустая минуту назад аллея парка засеялась людьми, спешащими кто куда, точно она узловой пункт всех улиц города, и зацвела женскими платьями. Какие-то из быстрых и стройных девушек спешат на службу, в магазины и конторы, какие-то — на свидания, но в миги, когда проходят они ажурную корзину аллеи, дышащую прелью цветочного магазина и крапленную трелями птиц, принадлежат они аллее и этому часу; не подозревая того — они, статистки этой сцены в театре весны, как словно бы народились на променаде вместе с тонкими тенями прутьев и листиков, распускающихся на глазах на темно-золотом фоне влажного гравия, и бегут в продолжение двух-трех золотых горячих и драгоценных ударов сердца, а потом вдруг, когда солнце уходит в раздумья облаков, бледнеют и подергиваются тенью, и впитываются в песок, словно сквозные филигранности.
Но на миг все же они зароили молодым своим спехом аллею, и безымянный ее запах плывет, казалось, из шелеста их белья. Ах, эти сквозные и свежие от крахмала рубашки, выведенные на прогулку в ажурную тень весеннего коридора, рубашки с влажными пятнами под мышкой, сохнущие от фиалковых дуновений дали. Ах, эти молодые, ритмичные, разгоряченные движением ноги в новеньких скрипящих шелком чулочках, под которыми скрыты красные пятна и прыщи — здоровая весенняя экзема горячей крови. Ах, весь этот парк бесстыдно прыщав, и все деревья повысыпали почками прыщей, лопающихся чириканьем.
Потом аллея снова пустеет, и по сводчатому променаду тихо диндонит проволочными спицами детская коляска на стройных рессорах. В маленьком лакированном челнышке, утопая в грядке высоких крахмальных фуляровых сборок, спит, словно в букете цветов, нечто их понежнее. Девушка, тихо везущая коляску, склоняется иногда над ней, наклоняет, скуля осями ободьев, на себя качливую эту корзинку, расцветшую белой свежестью, и ласково раздувает тюлевый букет до сладкого, уснувшего ядра, сквозь чей сон, как сказка, плывут — покуда возок минует полосы тени — облака и све́ты.
А позже, в полдень, набухший почками вертоград сей все еще переплетается светом и тенью, и сквозь шелковые ячеи образовавшейся сетки бесконечно сыплется щебет птичек — жемчужно сыплется от прутика к прутику сквозь проволочную клетку дня, но женщины, идущие краем променада, уже устали, и пряди их причесок ослаблены из-за мигрени, и лица измучены весной, а потом аллея и вовсе пустеет, и в тишину заполдня медленно вступает из паркового павильона запах ресторации.
Читать дальше
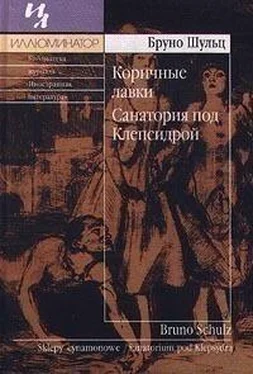


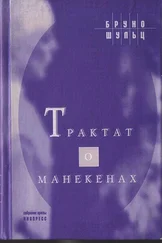



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


