Что для тебя, дорогой читатель, почтовая марка? Что для тебя сей профиль Франца Иосифа I с лысиной, увенчанной лавровым венком? Не символ ли будничности, детерминация всяческих возможностей, порука ненарушимых границ, которыми раз и навсегда замкнут мир?
Ибо мир в те времена был объят со всех сторон Францем Иосифом I, и выхода никакого не было. На всех горизонтах вырастал, из-за всех углов возникал профиль, вездесущий и неизбежный, запирая мир, точно тюрьму, на ключ. И вот, когда мы потеряли всякую надежду, исполненные горького равнодушия, когда внутренне смирились с однозначностью бытия, с тесною тою неизменностью, могущественным гарантом которой был Франц Иосиф I — тогда вдруг, словно обыкновеннейшую вещь, Ты открыл мне тот альбом, о Боже, дал мимоходом заглянуть в книгу, слущивающуюся сиянием, в альбом, страница за страницей сбрасывающий свои одежды, все более яркий, все более пронизывающий… Кто поставит мне в упрек, что я в тот миг стоял ослепленный, обессиленный волнением, а из глаз моих, переполненных сиянием, лились слезы. Что за ослепительный релятивизм, что за коперникианский поступок, что за зыбкость всех категорий и понятий! Вот, значит, сколько дал ты способов существования, о Боже, вот, значит, сколь неисчислим Твой мир! Это куда больше, чем я вымечтал в наидерзейших грезах. Выходит, оно истинно, то изначальное предвосхищение души, вопреки всему полагавшей, что мир неисчислим!
VII
В те времена мир ограничивался Францем Иосифом I. На каждой почтовой марке, на каждой монете и на каждом штемпеле утверждалась его изображением незыблемость мира, незыблемый догмат его однозначности. Мир таков, и нет тебе никаких миров кроме этого — возвещала печать с императорско-королевским старцем. Все прочее — фантазия, дикая претензия и узурпация. На все наложился Франц Иосиф I и остановил мир в его развитии.
В глубине души, дорогой читатель, мы тяготеем к благонамеренности. Лояльность нашей покладистой натуры не нечувствительна к обаянию авторитета. Франц Иосиф I и был высочайшим авторитетом. Если этот авторитарный старец возлагал всю свою значительность на чаши такой правды — делать было нечего, следовало отказаться от воспарений души, от пылких ее предвосхищений — устроиться, как получится, в этом единственно возможном мире, без иллюзий и романтики, — и забыться.
Но, когда узилище неотвратимо заперто, когда последняя отдушина замурована, когда все сговорилось Тебя замолчать, о Боже, когда Франц Иосиф I заткнул, заделал последнюю щелку, дабы Тебя не узрели, тогда восстал Ты в шумящем покрове морей и континентов и разоблачил его. Ты, Господи, разрешил себе нетерпимость ереси и взорвался на целый мир огромным многоцветным и великолепным кощунством. О, Ересиарх великолепный! Ты ударил в меня сею пламенной книгою, детонировал в кармане Рудольфа альбомом. Я еще не знал тогда, что альбом треуголен видом. Я путал его в слепоте своей с бумажным пистолетом, из которого, к огорчению учителей, стреляли мы в школе под партами. О, как же ты выстрелил, Господи! Это была твоя страстная тирада, это была пламенная и безупречная филиппика Твоя против Франца Иосифа I и его государства прозы, это была истинная книга света!
Я ее открыл, и осияли меня цвета миров, ветер необъятых пространств, панорама кружащихся горизонтов. Ты шел сквозь нее, страница за страницей, влача шлейф сей, сотканный изо всех поясов и климатов. Канада, Гондурас, Никарагуа, Абракадабра, Гипорабундия… Я понял Тебя, Господи. Это всё были уловки Твоего преизбытка, первые попавшиеся слова, подвернувшиеся Тебе. Ты опустил руку в карман и показал мне, словно горсть пуговиц, сокрытые в Тебе возможности. Тебя мало заботила доскональность. Ты изрекал, что́ пришло на язык. С тем же успехом Ты мог сказать: Панфибрас и Алелива, и воздух бы среди пальм запорхал попугаями, возведенными в степень, а небо, как огромная тысячекратная сапфировая роза, разворошенная до нутра, явило бы ослепительную суть — око Твое павлиноглазое, оресниченное и грозное, — и замерцала бы она светоносным стержнем мудрости Твоей, заблистала бы сверхцветом, заблагоухала бы надароматом. Ты хотел поразить меня блеском, о Боже, побахвалиться, завлечь кокетством, ибо и у Тебя случаются минуты суетности, когда Ты сам восхищаешься собою. О, как я люблю эти минуты!
Как же ты был унижен, Франц Иосиф I, со своим евангелием прозы! Напрасно искали тебя глаза мои. Наконец ты обнаружился. Ты был в толпе тоже, но какой же крохотный, свергнутый и тусклый. В пыли большака ты с остальными шагал сразу за Америкой Южной, но перед Австралией, и со всеми пел: Осанна!
Читать дальше
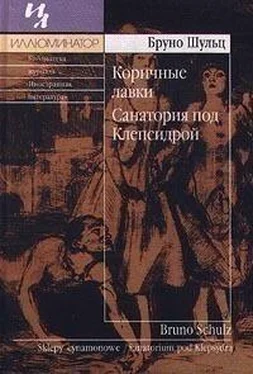


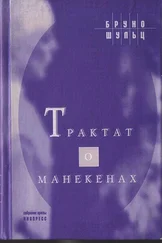



![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)


