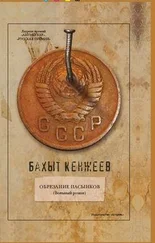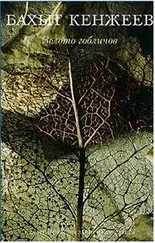Вещи Марк оставил в вокзальной камере хранения. «Вот ты и свободен,—думал он, сгорбившись на скамейке у ног чугунного Горького.— Свободен, насколько позволено судьбой».
На квартирном рынке в Банном переулке некий заросший красноносый тип мгновенно посулил Марку комнату в Марьиной роще за тридцатку в месяц при условии, однако, что ему прямо сейчас выставят бутылку портвейна. Соседка встретила их загадочно долгим взглядом. Сквозь мусор, запах нафталина и тления они прошли в обещанную комнату, где хозяин усадил гостя на подобие дивана, застланное пепельно-серыми простынями, перед ящиком из-под макарон. На полу валялись яичная скорлупа и половинка вареной картошки; красноносый откупорил свой портвейн и после двух подряд граненых стаканов пустился в пространный рассказ о том, как полюбила его одна буфетчица из Рыбинска, и мужа бросить собралась, и письма писала, и соколом ясным его, красноносого, величала, а он и сообрази вдруг, что проще пареной репы вся эта любовь, что метит зазноба через него прописку московскую заиметь, а там и жилплощадь отсудить, они, буфетчицы, народ ушлый, и «в шею я ее выгнал однажды, парнишка, жилец ты мой будущий, в шею!». Когда же бутылка опустела, стало Марку вдруг ясно, что вся гнусная затея—не с пропиской, не с коварной приволжской обольстительницей, а с ним, с Марком,—цель преследовала одну-единственную и притом достаточно очевидную. Под конец своей истории хозяин забрался прямо в кедах на диван, похлопал Марка по колену и зычно захрапел. А одураченный квартиросъемщик, натыкаясь в коридоре на коммунальные сундуки, вешалки и раскладушки, отправился восвояси.
В Банный переулок он не вернулся, и, где провел остаток дня — неизвестно. В девятом же часу вечера оказался трезвый и мрачный у баптистской церкви. Среди пакетов и пакетиков у него в авоське лежал подаренный Клэр томик Мандельштама. Евгений Петрович вышел из церкви едва ли не позже всех.
...в Госкомитет по печати,—горячилась его спутница.—С ними, мол, и договаривайтесь. Фонды урезали, бумаги нет. Предложите им в обмен макулатуру, может, что и выйдет, хотя сомневаюсь.
— Хитрит, — отвечал Евгений Петрович. — Потом на нас вину и перевалят. Но не сам Птицеедов это придумал. Придется через его голову обращаться прямо в ЦК. Я думаю...— Он заметил Марка, угрюмо за ним наблюдавшего.
— Здравствуй, отец.
— Здравствуй, сын.
— Не торопись. Я подожду на бульваре.
Когда через четверть часа отец с сыном брели к Трубной площади грозящее «Братскому вестнику» урезание тиража уже нисколько не волновало Евгения Петровича. Морщась, он рассказал Марку, что снова виделся с адвокатом, что свидание—когда кончится следствие—все-таки разрешат, по крайней мере ему, Евгению Петровичу. Кончается оно скоро и завтра можно будет передать продукты.
— У меня много всякого в авоське, — вздохнул Марк. — Колбасы копченой два кило. Сыр. Мыло. Орехов купил на рынке, Андрей их любит Деньги принес. Своих немного да от Ивана две сотни.
— Орехов нельзя. Колбасы не больше килограмма. За деньги спасибо. У тебя у самого-то осталось? Все-таки свадьба, командировки. А?
— Хватит мне. И к тому же две сотни-то не мои, я же сказал. Иван пожертвовал.
— Этих денег, пожалуй, я покуда не возьму.
— Ты что?
— Инна сегодня заходила. Один из их компании получил письмо от Якова. Из лагеря. Твой Иван... в общем, и с теми ребятами, и с Андреем. Ну, сам понимаешь.
Марк остановился посреди бульвара, чуть не выронив свою авоську
— Вранье!—выкрикнул он.— Вранье! И письма никакого не было! Отец, ты же взрослый человек, что ты-то поддаешься на такое? Он просто отказался на них работать, и они ему мстят, злобу срывают!
— Не кипятись, сын.—Евгений Петрович смотрел спокойно и тоскливо.—Я же не спорю, я только повременить хочу.
— Да, повременить,—буркнул Марк.—Ты до сих пор бесишься на Ивана, что он из вашей церкви ушел. И рад за любую гадость ухватиться.
— Ошибаешься. Та история забыта, мы никого силой не держим. С тобой-то что, милый?
По возможности коротко и бесстрастно изложил ему Марк всю историю, включая и вчерашние события в Конторе. До Светиной записки дошел черед, когда они уже сидели у Евгения Петровича за чаем и нехитро закуской. Ел Марк с жадностью: с утра во рту у него не было ни крошки.
— Бедный ты мой,—сказал наконец Евгений Петрович и поцеловал, сына в лоб.—Я-то думал, хоть у тебя все хорошо. Дети мои, дети... Чем помочь тебе? Поживи у меня, хочешь?
Читать дальше