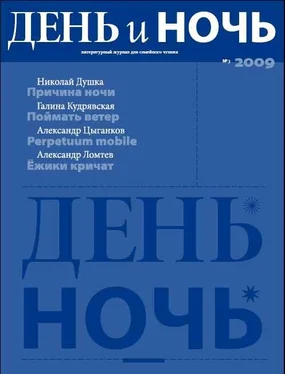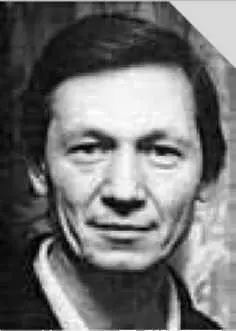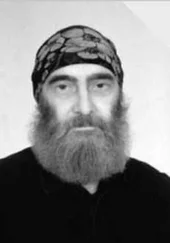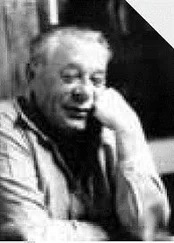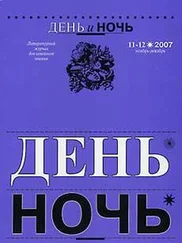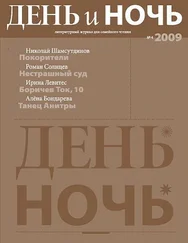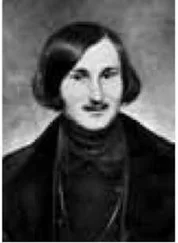Ю. Б.Когда-то Михаил Горбачёв назвал Солженицына монархистом, разумеется, вкладывая, в это определение негативный оттенок…
Н. С.Вкладывая, но, главное — без всякого понимания сути дела.
Ю. Б.Действительно ли им был Александр Исаевич? В своё время я общался с живущим ныне в Благовещенске писателем Борисом Черныхом, бывшим сидельцем политзоны «Пермь-36», которого вы знаете. Черных переписывался с Солженицыным и у них возник вопрос о монархии в современных условиях: «Готова ли к этому Россия?»
Н . С.Не готова…
Ю. Б. —сказал Александр Исаевич. На что Борис Иванович ответил: «А был ли готов иудейский народ к приходу Христа?»
Н. С.Ну, так и не принял! Не был готов — и не принял. И до сих пор ждёт Мессии. Я вам так скажу: Александр Исаевич в том смысле, в каком сейчас именуют себя монархистами те или иные люди, таковым себя не считал. Но он полагал, что, быть может, монархия — самый лучший способ правления. Однако монархия только тогда реально не профанирует своё назначение и название, когда сам монарх и большинство народа убеждены в его богоизбранности. Тогда есть шанс, что монархия будет благодетельной для людей, которые живут под монаршьим скипетром. Но в сегодняшнем российском обществе такие настроения напрочь отсутствуют. И, я думаю, не реально, чтобы они в обозримом будущем возникли. И Александр Исаевич так думал.
Ю. Б.Известно, как «бодался телёнок с дубом» и отношение Александра Исаевича к идеям коммунизма и советской власти. Но когда мы «отряхнули её прах с наших ног» и полностью погрузились в ту реальность, в которой мы сейчас пребываем, самое время задаться вопросом: «Что же мы, в результате, построили?»
Н. С.Мало что построили. А разрушили много. Александр Исаевич очень тяжело к этому относился. Он, вообще, всю жизнь был оптимистом, а близко к смерти не раз признавался, что это качество подутратил. Солженицын умирал в большой тревоге за страну. Просто в сердечной муке. Он терзался вопросом: «Сохранится ли Россия?» И даже написал об этом.
Ю. Б.Это опубликовано?
Н. С.Нет, эти заметки остались у него на рабочем столе. Александр Исаевич всегда считал, что и в 1917-м году, и теперь, виноваты две стороны: и власть, и общество. Но всегда более виновата власть. май 2009-го.
Я занят странными мечтами
в часы рассветной полутьмы:
что, если б Пушкин был меж нами —
простой изгнанник, как и мы?
Так, удалясь в края чужие,
он вправду был бы обречён
«вздыхать о сумрачной России»,
как пожелал однажды он.
Быть может, нежностью и гневом —
как бы широким шумом крыл, —
ещё неслыханным напевом
он мир бы ныне огласил.
А может быть и то: в изгнанье
свершая страннический путь,
на жарком сердце плащ молчанья
он предпочёл бы запахнуть, —
боясь унизить даже песней,
высокой песнею своей,
тоску, которой нет чудесней,
тоску невозвратимых дней…
Но знал бы он: в усадьбе
дальней одна душа ему верна,
одна лампада тлеет в спальне,
старуха вяжет у окна.
Голубка дряхлая дождётся!
Ворота настежь… Шум живой…
Вбежит он, глянет, к ней прижмётся
и всё расскажет — ей одной.
Иван Переверзин
Птицы вечности
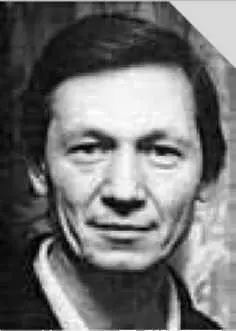
Птицы вечности реют повсюду
и в небесные трубы трубят.
Молча слушаю, мою посуду,
ты не слышишь, ты моешь ребят.
Мы оглохли от хриплых и разных
свистунов на руинах основ,
от пророков ленивых и праздных,
извращающих истинность слов.
Жить и жить бы спокойно и тихо
в мирозданье, где есть тополя,
где цветёт-доцветает гречиха,
дышат свежестью мёда поля.
Мельник с неба просыплет мучицы —
мы и сыты, и с хлебом живём…
Птицы вечности, вечные птицы,
я не знаю, что в сердце моём.
Только ходики слышатся в доме,
только тени мерцают хитро.
И всю ночь я держу на ладони
прядь волос — золотое перо.
Жизнь или смерть? Конечно, жизнь!
Но только чтобы, братцы,
душой не опускаться в высь,
во тьму не подниматься.
Я видел в смерти столько слёз,
кровь в жилах леденела!
И боль прожгла мой дух насквозь,
и стало пеплом тело.
Читать дальше