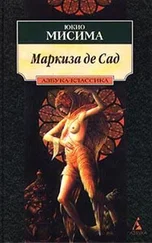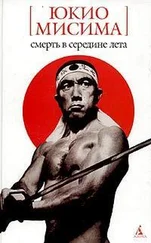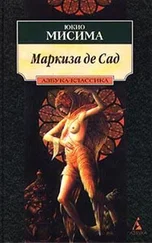Юкио Мисима - Солнце и сталь
Здесь есть возможность читать онлайн «Юкио Мисима - Солнце и сталь» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1999, ISBN: 1999, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Солнце и сталь
- Автор:
- Жанр:
- Год:1999
- ISBN:5-89091-046-9
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Солнце и сталь: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Солнце и сталь»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Солнце и сталь — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Солнце и сталь», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Для интеллекта достаточно опасно даже соприкосновение с обычным светилом; второе же солнце таит в себе куда большую угрозу. Именно это меня больше всего и радовало...
Вы спросите, как тем временем развивались мои отношения со Словом.
Я уподобил свой литературный стиль мускулам. Он приобрел гибкость и независимость, жировые складки ненужной орнаментальности исчезли, а вместо них появились бугры мышц, без которых современная цивилизация вполне может обходиться, хотя в прежние времена они считались признаком мужества и красоты. Сухой, чисто функциональный стиль мне так же несимпатичен, как чрезмерная чувствительность.
Я оказался один на необитаемом острове. Не только мое тело, но и мой литературный стиль оказались в полном одиночестве. Моя манера письма отвергала любое влияние. Больше всего меня стало привлекать благородство; идеалом красоты мне теперь казалась строгая, обшитая деревом прихожая в старинной самурайской усадьбе, — такая, какой она выглядит в неярком свете зимнего дня. Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством...
Естественно, мой стиль чем дальше, тем больше противоречил веяниям эпохи. Он изобиловал антитезами, отличался старомодной тяжеловатостью, был не лишен определенного аристократизма, но при любых обстоятельствах сохранял церемониальную размеренность поступи, даже когда маршировал через чужие спальни. Мой стиль, подобно старому служаке, постоянно держал грудь колесом. К тем, кто сутулится, горбатится, сгибает колени или, упаси Боже, вихляет бедрами, он относился с величайшим презрением.
Я знал, что в мире есть истины, которые можно разглядеть только согнувшись в три погибели, но исследовать их я предоставлял другим.
Втайне я вынашивал план достичь единства жизни и искусства, литературного стиля и этоса [1] Этос (греч.) — характер, обычай, нрав, норма поведения (производное от слова «этос» — слово «этика»).
движения. Если манеру письма сравнить с мускулами или этикетом поведения, то в ее функцию входит сдерживать произвол воображения. При этом какие-то истины неизбежно оказываются вне поля зрения, но тут уж ничего не поделаешь. И меньше всего меня заботило, что при таком подходе мой стиль лишается пугливого напряжения, свойственного смятению и хаосу. Я сам определил, какие именно истины меня занимают, а всеобъемлющей правды искать не стал. Меня не интересовали также правдочки слабые и уродливые; я разработал своего рода дипломатический протокол духа, позволявший справляться с болезнетворным влиянием чрезмерной игры воображения. Игнорировать или недооценивать это влияние было опасно. В любой момент трусливые отряды фантазии могли нанести предательский удар по крепости моего литературного стиля, которую я возвел с таким тщанием. Поэтому я бдительно охранял свой замок днем и ночью. Иногда с крепостной стены я видел, как вдали, на темной равнине зажигается сигнальный огонь. Я говорил себе: это костер. Вскоре пламя гасло. Литературный стиль был цитаделью, оберегавшей меня от воображения и его верной тени — чувствительности. Я требовал от своего стиля одного: чтобы он не терял напряжения, все время был на вахте, как помощник капитана на корабле. Больше всего я ненавижу поражение. Я представлял себе, как меня заживо разъедает коррозия, как желудочный сок чувствительности сжигает мои внутренности, как я раскисаю и расплываюсь, растекаюсь жалкой лужицей; или, что то же самое, как я приспосабливаю свой стиль к размякшему, обессилевшему времени и обществу. Разве бывает фиаско более позорное, чем это?
Как это ни парадоксально, подобное разложение, смерть духа нередко рождают истинные шедевры литературы — это факт общеизвестный. Наверное, появление такого шедевра можно назвать победой искусства, но это победа без борьбы; каковы, впрочем, и все триумфы художественного слова. Я же искал схватки — неважно, победоносной или гибельной. Меня не привлекало ни поражение без борьбы, ни, тем более, бескровная победа. Вместе с тем я хорошо знал, сколь обманчива природа войн, разгорающихся внутри искусства. Если я стремился к схватке, мне достаточно было оборонять крепость своей литературы, а наступательные действия следовало вести в иных сферах жизни. В том, что касается моего стиля, я должен был стать хорошим защитником, в остальном же — хорошим нападающим. Иными словами, мне предстояло овладеть всем тактическим арсеналом борьбы.
В послевоенные годы, когда рухнули все существовавшие прежде общественные ценности, я считал (и часто говорил другим), что настало время возродить классический японский идеал единства культуры и боевого духа, литературы и меча, Слова и Действия. Затем я охладел к этой идее. Когда же я научился у солнца и стали секретному искусству лепить Слово из Тела (а не наоборот, как прежде), во мне возникло равновесие двух разнозаряженных полюсов, и постоянный ток в моей душе уступил место току переменному. Изменился сам мой внутренний механизм — теперь я ощущал в себе как бы работу генератора переменного тока. И тогда я изобрел новый способ существования: два несмешивающихся, противоположных по своей сути потока, которые, казалось бы, должны были вбить клин в мою душу и расколоть ее пополам, на самом деле создали вечно обновляющееся равновесие, где погибшее тут же возрождалось к жизни, чтобы снова погибнуть и возродиться. Мой собственный вариант единства Слова и Действия зижделся на признании биполярности моего внутреннего устройства со всеми его конфликтами и противоречиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Солнце и сталь»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Солнце и сталь» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Солнце и сталь» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.