— Они и дальше намерены ехать за нами?
— Не могу же я предложить им изменить маршрут.
— Ладно, я сам предложу.
— Это на тебя похоже. Что же мне теперь ни с кем нельзя и словом обмолвиться? Опять все решат, что мы снова ссоримся.
Лукаш осмотрелся. Сидевший впереди них Асман беседовал с миссис Брук.
— Слава богу, нас никто не понимает. Прочитать тебе письмо отца?
— Пожалуйста, — холодно согласилась, все еще дуясь, Доминика.
Письмо адресовано было, собственно, только Лукашу.
«Дорогой Лукаш! — писал Геро. — Хоть ты, правда, и не юный польский граф, путешествующий по Западной Европе, а я не старый граф, пишущий тебе письма из Опиногуры, но мне вдруг захотелось написать тебе настоящее длинное письмо в старопольском стиле, ибо слишком много сейчас происходит в мире событий, чтобы оставлять их обсуждение лишь политикам и телекомментаторам. Внимание, какое повсюду уделяется в последнее время событиям в Польше и нам, полякам, нельзя уже объяснять просто стремлением к очередной политической сенсации, как это бывало порой прежде; теперь это явно запрограммированное внимание, в котором, боюсь, нам не отводится места. Или точнее: мы отнюдь не главный объект этого внимания, а самое большее — просто-напросто средство политических манипуляций. Небольшую страну на границе западного и восточного влияний стремятся превратить во взрывное устройство, подложенное под ставшие неудобными социальные системы. Я, как человек всегда строивший и никогда не разрушавший, не люблю взрывных устройств, и потому иногда ночами мне снится, как я убегаю от взрывов, и это, как мне кажется, не только результат психологической травмы, полученной в дни Варшавского восстания. Как и я здесь, ты наверняка слушаешь сообщения по радио о том, что творится в Польше, и, дополняя их картиной, которую наблюдал перед отъездом, имеешь полную возможность составить достаточно верное суждение о современной польской действительности, сотканной из множества нитей безверья и надежд. Я никогда на сто процентов не принимал на веру то, что говорится о нас здесь или там, тем не менее полагаю все-таки, что следует различать то, что говорится о виденном вблизи, от того, что может показаться, если смотреть издалека. Боязнь некоторых стран Западной Европы возможных, скажем так — отдаленных, последствий нынешних событий в Польше не просто стремление мещан к удобному status quo [9] Существующее положение (лат.) .
.
Да и что такое, впрочем, «status quo»? Разве это лишь наша теплая постель, хлеб, который мы хотим иметь на столе, безопасность близких нам людей, предметы, которые нам дороги? А разве это не достояние человечества, многими веками своей мудростью и трудолюбием украшавшего землю, подобно мастеру, инкрустирующему любимое творение? Последняя война принесла неисчислимые разрушения, но мы все-таки по-прежнему любуемся пирамидами, Акрополем, стенами Колизея, развалинами Форума, созерцаем римские дворцы, готику, ренессанс и барокко. В новой войне — если она разразится, если человек перестанет быть существом разумным — одно нажатие кнопки приведет к тому, что навсегда исчезнет готика. Исчезнет ренессанс. Исчезнет барокко. Исчезнут дворцы, книги, скульптуры и картины, возможно, исчезнет и сама земля. В этой войне и земля может погибнуть. Мне порой начинает казаться, что люди недостойны своей матери-земли.
Если кто-то считает возможным назвать трусом человека, оберегающего свою теплую постель, ломоть хлеба на своем столе, свою привязанность к людям и предметам, он не смеет назвать трусом человека, который ставит спасение достояния всего человечества, самого облика земли выше изменения той или иной общественной системы одним нажатием кнопки.
Я чувствую, как ты мечешься, понимаю, что твои двадцать семь лет, не отягощенные жизненным опытом и вдруг подвергшиеся столь тяжкому испытанию, противятся моим пятидесяти восьми, моим травмам, нанесенным войной, хоть меня и не задела ни одна пуля. Так уж сложилось у нашего несчастного народа, что почти каждое поколение передает следующему свой военный опыт, воспринимаемый сначала неприязненно, с неверием, а потом — по прошествии лет — со снисходительностью. Но сегодня опыт этот несет в себе особую убеждающую силу, и главным образом потому, что исходит он от людей, которым когда-то достало мужества и готовности заплатить наивысшую цену за то, что ими почиталось дороже своих юных жизней. Повторяю: юных. Ибо одно дело — умирать в двадцать лет и совсем другое — под семьдесят, когда неотвратимое все равно уже становится вполне осязаемым.
Читать дальше





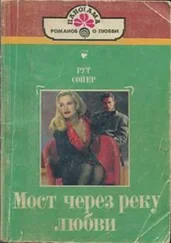

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




