Прежде, когда ему доводилось испытывать подобное чувство р а с т в о р е н и я в свежести раннего утра, он никогда не ощущал этого с такой разительной силой, как сейчас, — сам тогда был молод. А ведь и Гейл, когда он впервые увидел ее бегающей за мячом на корте, была точно такой же козочкой. Зеленый противосолнечный козырек на резинке затенял ее лицо и стягивал пышные, непокорные волосы. Он тогда даже не разглядел ее толком и обратил лишь внимание на загорелые ноги в белых носочках и разбитое правое колено, заклеенное пластырем. Но все-таки записался в теннисный клуб, стал ежедневно ходить на корт и даже учиться играть, злясь на себя за украденное у музыки время.
Впрочем, еще и до Гейл были девушки с нежными личиками, которые он видел совсем близко, — те, за которыми он носил футляры с инструментами после занятий в консерватории, когда, загоняемые частыми тревогами в убежища, они сидели там, тесно прижавшись друг к другу, и дрожали от страха, и те, с тонкими шейками, торчавшими из солдатских воротников, которых он целовал под пальмами по дороге в лагерь Кустин, и, наконец, те, самые ранние, из детства, с которыми он вместе рос и взрослел, девчонки, источавшие первый аромат женственности — он ощущал его и до сего дня. Манечка, которую каждую неделю взвешивали на весах-кресле в бабушкиной лавке. Манечка, с пальчиком, покрытым ярко-красным лаком… Зюзя, рыдавшая из-за своего первого лифчика.
…Асман заказал еще одну рюмку хереса. «Кажется, сегодня я уже не поеду в Торремолинос, — подумал он сонно. — К чему ехать в Торремолинос, если в Кордове так хорошо?» Разве он не заслужил у судьбы одного дня, когда можно свободно выпить три рюмки крепкого испанского вина? Он никогда не пил за рулем, перед репетициями и концертами, после же концертов чувствовал себя настолько возбужденным, что вынужден был прибегать к снотворному, а совмещать его с алкоголем не годилось, и он строго этому правилу следовал.
И на этот раз вино ему подал сам хозяин кафетерия. С иссиня-черной шевелюрой, в черном жилете, подпоясанный белым фартуком, он напоминал большого пингвина, снующего средь снежно-белых скатертей. Сняв с подноса рюмку, он бережным движением поставил ее перед ним.
— Рад, что вино вам понравилось.
— Спасибо. Прекрасное вино. Это ведь ваша национальная гордость.
— Да, конечно. Рекомендую вам съездить в Херес-де-ла-Фронтера, это совсем недалеко отсюда. Там туристам показывают подвалы, в которых вино выдерживается.
— Я однажды там уже был.
Юная компания за соседним столиком разразилась громким смехом.
Почтенный «пингвин» чуть склонился:
— Ах, эта современная молодежь…
— Ну что вы, лично мне нравится, когда молодежь смеется.
— Рад, что вам это не мешает.
— Совсем напротив.
— Вам подать что-нибудь еще?
— Я подумаю.
Хозяин поплыл к бару, а он поднял рюмку и, прежде чем поднести ее к губам, с минуту рассматривал золотистый свет, искрившийся в вине. Вдыхал его запах. Если бы солнце пахло, у него, несомненно, был бы именно такой аромат… Интересно, над чем эти немки или шведки так смеются? Хорошо смеются, почему бармен решил, что это ему мешает? Ему всегда нравилось, когда девушки смеялись. И те самые первые, которых он любил еще до того, как понял, что это такое… Манечка с лакированным пальчиком на ножке. Зюзя… Зюзя каждый год приезжала на каникулы к своей тетке, жене вице-старосты, сад и двор которой соседствовали с садом и двором бабушки, худая как щепка, похожая скорее на мальчишку, чем на девчонку, с длинными тонкими ногами; как-то в классе — она сама об этом рассказывала — ксендз-префект сказал: «Зюзя, не выставляй своих спичек из-под парты, а то ненароком наступлю и сломаю». И вдруг с этой Зюзей стало что-то происходить. В предыдущий год она была вполне обыкновенной, а на следующий уже непонятно — она или не она? Офицеры на пляже заметили это первыми. «Фуражки можно на э т о вешать», — переговаривались они между собой, когда Зюзя, ничего еще не подозревая о своем теле, играла в волейбол или бежала по песку к воде. Жена вице-старосты в конце концов тоже обратила на это внимание. Она повела племянницу к Рахили Блятт — корсетнице — и попросила ее сшить Зюзе… все ребята умирали со смеху от этого слова… сшить Зюзе б ю с т г а л ь т е р. Зюзя плакала целый день. Он видел ее через забор, видел, как она сидит на скамейке с поднятыми коленями и, спрятав в них лицо, плачет от горя и унижения. Он тоже чуть не плакал. Ведь еще прошлым летом они дрались в саду под старым орехом, и она была плоской как доска, а теперь вдруг — бюстгальтер! Из-за этой вещи, столь ужасной, шел потом бой целую неделю. Он переставал играть гаммы на фортепьяно, чтобы послушать ссоры, вспыхивавшие у соседей. «Не буду носить! — кричала Зюзя. — Сниму! Выброшу!» «Сними! Сними! — отвечала тетка с грозным спокойствием. — Выбрось! Будут у тебя титьки до колен, кто тогда на тебя посмотрит? Разве что нищий Янко с паперти. И больше никто!» — повторяла тетка, уверенная в неотразимости своей угрозы. И Зюзя действительно стала плакать все тише, потом уж только всхлипывала, и наконец он совсем перестал ее слышать. Где она теперь? Как теперь выглядит ее горделивая тогда девичья грудь, на которую офицеры собирались вешать свои уланские кивера, — этого ему, к счастью, никогда не дано было узнать.
Читать дальше





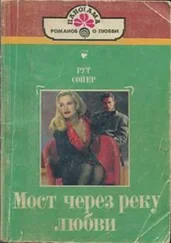

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




