Он потер пальцами вспотевший лоб. Казалось бы, эти воспоминания не должны причинять страданий, но возврат к тем годам, тому периоду жизни не мог обойтись без боли, не мог не растравить старых ран…
…Спустя многие годы, во время концерта в Карнеги Холл в Нью-Йорке, в его уборную прорвался человек, которого он не знал и не помнил, но который упорно твердил, что знал его, Иеремию Асмана, в детстве и что именно сейчас у него единственная возможность рассказать ему, как умирала его бабушка в небольшом, не вошедшем в историю человечества гетто галицийского городка, как умирала Сара Асман, богиня за прилавком своего магазина, и как этот человечек дал ей незадолго до ее смерти кусок хлеба.
— И чего вы теперь хотите? — крикнул он гневно, вместо того чтобы огорчиться. — Чего вы хотите за тот кусок хлеба? Тысячу? Десять тысяч? Сто тысяч долларов?
Перепуганный человек выскочил из уборной, Асман же через несколько минут должен был выйти на сцену и впервые исполнить свой дантовский «Ад», и сделал это с неистовством, не предусмотренным в партитуре — к изумлению оркестра и восторгу слушателей. Всю глубину и силу мук, выразившуюся в исполнении, тут же связали с его личными переживаниями, хотя он упорно повторял, что не ставил перед собой такой высокой цели потому просто, что не в силах был бы ее реализовать, ибо ни один вид искусства не обладает столь выразительными средствами, какие могли бы передать муки людей, причиняемые им ближними, а не карающей божьей десницей.
Того человека, который нарушил покой его души перед концертом, он искал потом повсюду через печать и радио — впустую. Ему так бы никогда и не узнать, как умерла его бабушка, если бы однажды в его уборной — к счастью, на этот раз после концерта — не появилась — он уже не помнит, в каком городе это было, — когда-то рыжая и конопатая, а теперь тициановского типа с густо напудренной, но по-прежнему типично деревенской физиономией, с бриллиантами в ушах и на пальцах Гелька Принц из фирмы «Исаак Принц и сыновья — Польский килим».
Да, конечно, спастись из них не мог никто: ни Салька с аристократическими чертами лица и глазами серны — жена старшего из братьев, Исаака, которую он взял прямо из университета во Львове, где она не пропускала ни одной театральной премьеры и читала Цвейга, читала Цвейга в о р и г и н а л е, ни ее смуглокожий муж, ни младший брат, Пинкас, муж Гельки, которому когда-то представлялось, что, надень он белый мундир, как на румынских офицерах, приходивших из-за реки, и все курортницы будут у его ног, — никто из них спастись, конечно, не мог, никто, кроме Гельки, некрасивой, конопатой, но со вздернутым славянским носом и широкоскулым лицом, без каких бы то ни было черт красоты царицы Савской или Богоматери…
Асман вскочил с кровати, свернул килимы в рулон и поставил в угол. Ему хотелось, чтобы из них лучилось солнце его детства, запахи полуденного лета, цветов и плодов, разложенных на домотканых холстинах, но поднимался бы также смрад ненависти и крови, чего ему посчастливилось избежать, ибо он перешел через мост над пограничной рекой, бежал и п о к и н у л эту страну.
Снотворное не действовало. Очевидно, он был слишком перевозбужден и доза оказалась недостаточной. Он взглянул на часы — скоро одиннадцать — и подумал, что внизу, в баре, быть может, есть еще люди, один вид которых поможет ему прийти в себя, успокоиться, отрешиться от тягостных воспоминаний. Эти милые американки из туристической группы и с ними несколько мужчин. Да и девушка, возглавлявшая экскурсию, которая с такой заботливостью спрашивала, не ушибся ли он, когда перед отелем столкнулись машины. Это был его мир, мир, к которому он принадлежал, с которым сросся всей сутью своей жизни, в котором черпал силы и покой, уверенность в завтрашнем дне. То, что осталось в прошлом, попросту перестало существовать, попросту не существовало, жизнь бурно неслась вперед, как река, которую он перешел, и какой смысл теперь перебрасывать мост через ее стремнину, память, увы, все равно не может ни оживить людей, ни изменить обстоятельств…
Он надел куртку, решив спуститься в бар, но тут же подумал, что там придется, наверное, выпить, а это исключалось после снотворного: алкоголь и снотворное несовместимы. Он снял куртку, повесил ее на стул и поднял трубку телефона. Набрал номер администратора, тот сразу же ответил, а он с минуту молчал, размышляя, не дать ли отбой.
— Алло! Алло! — кричал администратор.
— Говорит Асман, — ответил он наконец, — Джереми Асман.
Читать дальше





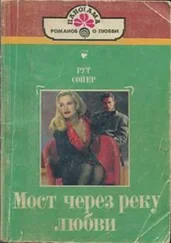

![Ольга Богатикова - На Калиновом мосту над рекой Смородинкой [СИ]](/books/400196/olga-bogatikova-na-kalinovom-mostu-nad-rekoj-smor-thumb.webp)




