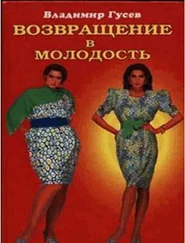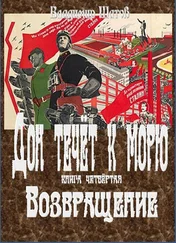На процесс высасывания и обсасывания Белкин глядел с той же улыбочкой, чем-то напоминая бесстрастного Будду. Когда объявили неожиданно мягкий приговор, и папаша с сыночком, переглянувшись, не сдержали радостных оскалов (сработала защита!), а зал недовольно загудел, улыбочка оставалась на лице, как приклеенная. Но на улице Будда исчез, словно его и не было никогда: на грязном асфальте валялся и выл совсем другой человек, хрипя: «Ненавижу!! Ненавижу здесь все!! Здесь никогда ничего хорошего не будет, это проклятая жизнь!» Белкина отпаивали валерьянкой, но тогда будто прорвало плотину, которая три месяца сдерживала поток злобы и ярости и, наконец, рухнула.
Белкин попал на неделю в больницу, а по выходу начал лихорадочно собирать документы на отъезд. Разыскал какую-то еврейскую родню, обменял паспорт, а поскольку Германия начала в массовом порядке принимать иудейский народ на ПМЖ, то спустя полгода оказался в Ганновере. С нами он почти не общался, если раскрывал рот, то произносил одно и то же: ненавижу, это проклятая жизнь, здесь ничего хорошего не будет! Когда же уехал, то и вовсе замолчал, даже матери почти не звонил.
Вот почему, лежа на продавленном диване Каткевича, я думаю: «Может, зря я суечусь? Здесь действительно ни хрена хорошего, едва гражданская война не грянула, а тогда пусть лучше мать-одиночка Ирина Мищук останется в Мексике!» Мысли провоцирует не столько гуманизм, сколько лень – я ведь так и не узнал адрес Минюста. Обещавший помочь Каткевич застрял в институте, я же охраняю Машку, которая вот-вот разродится. «Везет тебе, животина, – думаю, глядя в слезящиеся глаза собаки, – Твои отпрыски попадут в богатые семейства, будут жрать из серебряных (как минимум, из пластиковых) мисок и, в сущности, горя не знать. А человеческие детеныши? Взять, к примеру, мальчика Гену, которого мамаша увезла в Мексику. Там, конечно, не долбят бронебойными снарядами парламенты, зато случаются землетрясения, царит антисанитария, летает муха це-це. А мой сын? Варшавские и так его строят, как первогодка в армии, а теперь еще про отца мерзости начнут сочинять! И пусть отец я хреновый, но пацан-то меня любит! А маленькая девочка, у которой были раскосые глаза? Эти глаза не понравились двум накачанным самогоном выродкам, и они…» Машка тяжело поднимается, ковыляет к миске (обычной, металлической), я же, чтобы не раскисать, в очередной раз спускаюсь вниз, к телефону.
– Але! Але! Где она?! Не знаете?!
Отвечает голос с акцентом – Лера оставила телефон какой-то иностранки, вроде бы подданной Швеции, и та поначалу с нордическим спокойствием предлагала позвонить позже. Однако с третьего раза в голосе начали прорываться раздраженные ноты, дескать, это не есть прилично – звонить через каждые половина часа! Один раз показалось, что трубку прикрыли рукой, задали кому-то вопрос, а потом опять – не знаю, где есть Валера!
Не исключено, что она тоже смазывает лыжи, чтобы укатить в Швецию, выскочить замуж и переквалифицироваться из поэтессы в добропорядочную «фру». Лера говорила, что ее новая подруга работает в «Русско-шведском форуме» – именно такие конторы, как мне представляется, занимаются вывозом русских невест.
– Ты вот что… Не светись особо, ладно? А то нас по два раза в день шмонают…
Это комендант, он опять торчит на вахте, взирая на меня калмыцкими (поскольку фэйс опух) глазами. Я понимаю намек, достаю купюру, и та исчезает в широких штанинах. Этот комендант с ВЛК, говорят, три года назад неплохо отхватил за вышедший большим тиражом роман, но инфляция и порочный образ жизни, как видно, давно уничтожили гонорар…
– И все-таки не светись, по дружбе говорю. Эти ребята, кажется, всю жизнь готовились к таким денькам, сейчас – их время. Меня ведь тут каждая собака знает, а тоже вчера чуть не огреб от патруля! Они заходят, а мы, значит, винцом балуемся. Как, восклицает майор, во время комендантского часа – пьянствуем?! Не поло-ожено! В это время разрешается пить только абсент! Берет две бутылки вина, выливает в чайник с водой, а значит, продукт испорчен!
– Зато, – говорю, – радует повышение образовательного уровня наших патрулей. Они уже и про абсент знают, глядишь – скоро будете беседовать про Ренуара.
– Да уж, повышение… Этот майор, между прочим, потом вышел, а двое его подручных в масках – нас мордой в пол!
На седьмом этаже, перед выходом из лифта лежит гигантское (так представляется на первый взгляд) тело: кажется, разлегся некий Гаргантюа, поглотив невероятное количество еды и, конечно же, выпивки. Осторожно перешагнув тело, разглядываю спящего гиганта. Ноги-руки вразлет, «борода лопатой» задрана вверх, и храп такой, что вздрагивает решетка лифта. Где-то я этого персонажа видел, но вертикальное положение и горизонтальное – две вещи несовместные, и я никак не могу вспомнить: где именно? И кто он такой?
Читать дальше