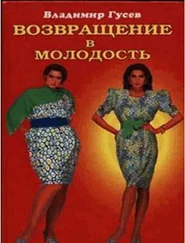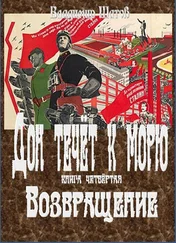Сашка проводит рукой по горлу, мол, работы – завал, и зависает пауза. Ей-богу, мне стыдно того, что событие столь мало меня занимает, но что поделаешь? Вот и начальник вынужден покинуть кабинет; потом, наверное, вызовет Сашку и отчитает: зачем, мол, в рабочее время всяких охламонов принимаешь? Премии лишиться хочешь?! Сашка крутит ручки на приборах, на одном я замечаю светящуюся карту полушарий и неожиданно для себя спрашиваю:
– Слушай, а ты можешь узнать: какая сейчас погода в Мексике?
– А зачем тебе – в Мексике?
– Одна знакомая туда поехала, поэтому интересуюсь: не жарко ли ей там?
– Ну, если знакомая, то узнать можно…
Включив прибор, Сашка сообщает, мол, в Мехико – тридцать пять, на побережье чуть прохладнее, осадков не ожидается. После чего опять молчим, хотя меня так и подмывает пожаловаться, мол, в голове сквозняк, а в жизни бардак: от одной женщины сбежал, а та, к которой приехал, ведет себя странно. При этом в сумке у меня документы еще одной женщины, явно сумасшедшей, рванувшей туда, где в октябре тридцать пять выше нуля, и население, защищаясь от солнца, ходит в сомбреро. «Ну, даешь… – приятель покрутил бы у виска, – думаю, ты сам не лучше этой сумасшедшей!» «Да? Тогда я не буду у тебя спрашивать адрес Министерства юстиции. Я просто туда не пойду; и в посольство тоже не пойду. Потому что у воина нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях единственное, что связывает его с ближними – это контролируемая глупость…
Я мог бы процитировать это Сашке, но вряд ли нашел бы понимание.
Москва гудит разговорами в транспорте, вспыхивает уличной полемикой и толпится у газетных стендов со свежими выпусками. Я тоже останавливаюсь, чтобы прочитать о БТРе, который обстрелял машину марки «Форд» – в итоге троих с тяжелыми ранениями доставили в Склифосовского. Что ж, еще повезло, во всяком случае, в сравнении с лейтенантом милиции, что стоял на балконе гостиницы «Украина» и по заданию начальства снимал операцию захвата БД на видеокамеру. Нашелся какой-то снайпер, «снял» оператора с балкона, и у кого-то в доме – гроб. «Сколько будет гробов?» – задавался вопросом один из коллег-журналистов и сам же отвечал: об этом, вероятно, мы никогда не узнаем. Зато мы знаем, например, о слесаре Войтенко, который мирно ехал на велосипеде мимо здания Останкино, потому что у него была вторая смена, а жил он на улице Цандера. Ехал, остановился посмотреть на толпу у телецентра, вдруг – шальной «трассер», и опять гроб! То есть, «попутчик» здесь погулял от души, захватил с собой в далекий путь не один десяток зевак и исполняющих воинский долг.
Я озираю крыши окрестных домов, и по спине пробегает холодок. Может, там действительно кто-то до сих пор прячется по чердакам и хладнокровно прицеливается сейчас в прохожих? Я спускаюсь к реке, вижу на ступенях мэрии людей с автоматами и топаю мимо. Зато в начале моста через Москву-реку – вполне мирная толпа самодеятельных фотографов, щелкающих затворами. Речь разноязыкая, жесты оживленные, кто-то даже цокает языком, мол, the best! Гут, «карашо», отшень, знаете ли, замечательный будет фото!
Мощное белое здание с закругленным центральным корпусом напоминает огромного молочного поросенка, которого в некоторых местах подпалили паяльной лампой. Гигантская горелка здорово прошлась по фасаду, лизнула пламенем левый край, но, можно считать, пощадила этого закормленного порося… Что?! Нет, увольте, я «не карашо» себя чувствую, поэтому не смогу вас сфотографировать! Отказываю я пожилой улыбчивой паре, судя по выговору – немцам. Они же хлопают меня по плечу, дескать, не переживай, камрад, Рейхстаг в свое время выглядел хуже, затем обращаются к кому-то из толпы и, отойдя к перилам и обнявшись, дружно говорят «чи-из». Почему-то они меня раздражают. На мосту останавливается автобус, оттуда высыпает еще группа иностранцев, и опять слышится приглушенное: «Ва-ау!», а далее – треск фотоаппаратов.
– Айм сорри… – тихо говорят сзади, – Фуражка – йес? Эми фуражка, армейская! Тэн долларс, почти задаром!
Некто с глазами наркомана сует офицерскую фуражку, кося глазами по сторонам. Я молча берусь примерять, лихо сбиваю фуражку на бок, как это делали донские казаки, и наркоман выставляет большой палец вверх, мол, круто! А затем для доходчивости растопыривает все десять пальцев:
– Тэн!
Я, однако, возвращаю товар.
– Извини, родной, но я – пострадавший на армейской службе. Офицеров же в особенности не люблю!
Читать дальше