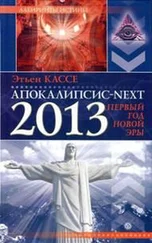Даже политики углядели возможность. Они находили в этом что-то благородное и чистое: художник, чуждый всемирной славы и денег.
«О чем они не знали, — думал Джонти, сидя в своем фургоне под деревом, — так это о моем страхе».
Он вспомнил, как Инджи села рядом с ним и тихо сказала:
— Признай, что Спотыкающийся Водяной — творение твоих рук, Джонти. Позволь себе это. Ты вырезал его. Он твой. Признай его.
— Нет. — Он помотал головой. — Нет.
Нет. Джонти помотал головой снова, сидя в фургоне. Нет. Он открыл еще пиво. И, да, он задумался о годах, проведенных на Дороге Изгнания. Он был уже почти взрослым парнем, когда начали изменяться законы, и по утрам, стоя перед зеркалом, он начинал беспокоиться о слишком смуглом цвете своего лица. Он не был таким темнокожим, как некоторые его друзья, жившие в домиках на Дороге Изгнания вместе с родителями и получившие уведомление о том, что они должны уехать, но почти таким же. Рыжие волосы в сочетании со смуглой кожей смотрелись дико.
«Неужели это чтобы защитить меня, — размышлял Джонти, — мама Летти встала на защиту этих темнокожих семей, когда вышло распоряжение о том, что они должны перебраться в Эденвилль?» Он помнил неясно — сквозь отрицание и забывание, — как однажды его мать отправилась к директору школы. Зачем ей это понадобилось? Неужели он набедокурил? Или его хотели перевести в другую школу вместе с другими чернокожими детьми?
Джонти открыл дверь фургона и оставил ее открытой, словно хотел оставить себе лазейку для поспешного отступления, если понадобится. Он обошел Дворец Пера кругом, чувствуя кожей раскаленный тяжелый ключ от парадной двери: ключ пролежал на солнце на переднем сидении. Он заглянул в кухню, увидел плиту, сияющий пол, разделочные столы. Потом он побрел в сторону навеса, под которым все еще стояли двухколесные повозки, вдохнул запах сена и конского навоза, увидел в пыли возле двери конюшни следы крысы.
Он вернулся к фасаду и встал на веранде, сжимая в руке ключ. Потом он повернул его в замке, толкнул дверь и уверенно пошел в сторону мастерской Меерласта. Протез из слоновой кости обнаружился в обитом бархатом футляре на полке возле стола. Джонти отвернул пятку. Ему пришлось приложить немалое усилие, но его руки были гораздо сильнее рук Меерласта, и крышка поддалась со второй попытки. Он вытащил из протеза свернутую в трубочку карту, вернул на место пятку и вышел из дома. Он запер дверь, запрыгнул в фургон и погнал его через лужайку на дорогу. Мотор рычал, из-под колес летел гравий. Он переехал через рельсы и помчался по Дороге Вильяма Гёрда. Двигатель жалобно чихал на всем протяжении его пути.
Генерал Тальяард и матушка, приехавшие на «Плимуте» в центральный магазин, смотрели вслед несущемуся в клубах пыли фургону.
— Смотрите, как он бежит. Он все эти годы бегал, и все еще бежит.
— Кара Господня! — не к месту взвизгнула матушка, дочь Любезной Эдит.
16
Это было похоже на змею, ползущую к Йерсоненду, говорили люди годы спустя: канал, упорно прорубавшийся сквозь ландшафт, прорезавший холмы, огибавший утесы и в конце концов поднимавший свою сияющую голову к невозможному, к Горе Немыслимой.
Все держалось только на дерзости и одержимости Испарившегося Карела и Немого Итальяшки, — ибо что еще, кроме одержимости, могло помочь такому безумному проекту обрести жизнь? — поднявших каменный акведук в гору и перенесших его через ее вершину.
Фермеры с окраин города, которым не было особо чем заняться из-за засухи, помогали работавшим каторжникам углубить городскую запруду и нарастить стены. Оросительные желоба, идущие от запруды по улицам Йерсоненда к фермерским угодьям и городским садам и огородам, тоже были расширены, но их еще предстояло настроить под чутким руководством Немого Итальяшки, после того, как канал стремительной воды окончательно вольется в запруду. Канал развился в оросительную систему, охватывающую всю долину, и Йерсоненд стал самым известным сельскохозяйственным городом в области. Стали выращивать маслины и даже сладкий виноград, посадили пальмы и экспериментировали с хлопком и люцерной.
Годы цветения, называли их йерсонендцы, и в их глазах загорался огонек, когда они наклонялись к Инджи и говорили со смесью печали и гордости в голосе. К тому моменту Немой Итальяшка уже ослеп, рассказывали они, и бродил, опираясь на руку Любезной Эдит по полям, вдыхая аромат плодов своего успеха. Они часто сидели возле запруды и она тихонько пела ему: он клал ладонь на ее горло, чтобы чувствовать вибрации голоса. Эдит не знала, понимал ли он что-то в музыке, но он всегда сидел совершенно неподвижно — лишь слегка раздувались ноздри, — пока его ладонь лежала у нее на гортани.
Читать дальше