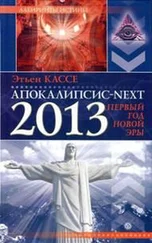Все вытягивали шеи, чтобы убедиться, что мисс из Кейптауна не сидит на соседнем сидении, но он был один. В Йерсоненде все внезапно стали бояться Джонти Джека. Многие из них не осознавали, что он уже известен — даже знаменит — за пределами городка благодаря Спотыкающемуся Водяному, а если бы узнали, то вздернули бы носы и почувствовали бы себя в чем-то преданными, выброшенными за борт.
Фургон переехал через железную дорогу, грохоча стамесками и бревнами, которые Джонти держал в жилой части, просто на всякий случай.
Он медленно ехал по шоссе, в какой-то момент задержавшись под палящим солнцем, словно наказывая самого себя. «Я не могу ехать дальше, — подумал он, — в этот дворец теней. Никогда не мог этого сделать. Так почему сейчас должен?»
Но он вспомнил гнев Инджи, вспомнил собственное замечание:
— Я собираюсь погладить скорпиона по спинке.
Тогда он снова ослабил хватку, сделал еще один глоток пива и развернул машину. Впереди показались огромные деревья, белый фасад, просторная парадная веранда, лужайки и кусты, одичавшие и заросшие, из которых вспорхнула стайка цесарок, устремившаяся к деревьям, коты — потомки котов Меерласта, которых тот держал в конюшнях, чтобы отваживать крыс.
Джонти припарковал машину под дубом на лужайке, остановившись на почтительном расстоянии от парадной двери. Он заглушил мотор и открыл еще одну бутылку пива. Он сидел в тени и смотрел на старую усадьбу, прислушиваясь к треску цесарок, оживившихся по вечерней прохладе.
«Спотыкающийся Водяной, чудом поднявшийся из-под земли, — говорил себе Джонти. — Прошлой ночью я опять возился с гнилым бревном и стамеской, снова и снова слоящей дерево; со стамеской, которая не откликается на твои усилия; сад скульптур, который стоял, молчаливый и уродливый, среди скал; мысль, что мне никогда не удастся создать идеальную скульптуру.
В ту ночь я слишком много выпил, сидя прямо на земле рядом с упрямым бревном, и было уже очень поздно, когда я доплелся до своей комнаты, лег на кровать и слушал, как ночной ветер толкался на склонах Горы Немыслимой. Нет, не толкался, потому что в такие ночи ветер не толкается: ветер скакал, трясся и возился на горе и распахивал все, всюду пролезал, тащил и швырял.
Как я уснул, я не помню. Но спал глубоко, и мне снились странные сны: мне снились тотемы — высокие столбы с крыльями, глазами и вывалившимися языками. Я ворочался на кровати и кричал, но когда я проснулся, ветер стих и наступило великолепное утро. Цесарки болтали под деревьями, за ночь под окном раскрылись белые лилии. Несмотря на количество выпитого накануне вина и странные сны, мне было легко и радостно.
Я сделал кофе, насвистывая и предвкушая, как добьюсь от бревна всего, что оно может дать, при помощи новой стамески, которая будет чувствовать дерево, последовательно и неторопливо. Не так поспешно и яростно, не так исступленно: только мягко, бережно, задерживая дыхание и чувствуя, что постепенно все получается…
А потом я вышел из передней двери, которая простояла открытой всю ночь, поскольку я был слишком пьян, чтобы позаботиться закрыть ее, а там, сияя в утреннем свете, с великолепными крыльями и плавниками и… Боже…
Я выставил себя идиотом, — понял Джонти, — когда побежал в тот день, прямо с утра, в такую дыру как Йерсоненд, чтобы всем рассказать про скульптуру, крича, лепеча и радуясь. Никто не понял, да и не мог понять».
А потом кто-то позвонил в городскую газету, возможно даже, этот трепач Смотри Глубже. И появился первый журналист — сухопарый, маленький циничный человечек, который когда-то мечтал стать художником.
Однажды утром, когда Джонти вернулся домой после тестирования нового воздушного змея в горах, он обнаружил этого коротышку. Он ходил вокруг Спотыкающегося Водяного с фотоаппаратом и блокнотом. Джонти рванул напролом через кусты и, видя, что тот даже не думает уходить, подошел и одним ударом выбил фотоаппарат у него из рук.
Это стало началом переполоха. Потому что где вы видели художника, который не хотел бы демонстрировать свои работы? Это свело журналистов от искусства с ума. Они приезжали группами, иногда даже телевизионными бригадами, но все поворачивали в Кейв Гордже, потому что Джонти принимался забрасывать их камнями и кусками дерева.
Позже он узнал от Инджи, что в столице зародилась циничная теория, будто он прекрасно умеет манипулировать прессой. Он держался замкнуто, избегал их внимания, и они не могли ни понять этого, ни принять. Поговаривали даже, что он действует согласно коварному плану. Что в один прекрасный день он распахнет двери своей мастерской. А до того момента журналисты состязались за право взять первое интервью и сделать первую фотографию.
Читать дальше