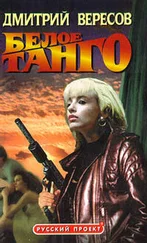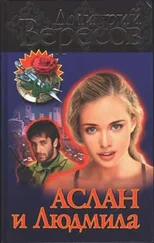– Успокоилась?! – взвизгнула она. – Так ты ждешь, чтобы я успокоилась? Навеки, конечно? О, да, да, ты только этого и ждешь!
– Зачем ты так?.. Мы же любим друг друга, Маша. – В его словах прозвучали тоска, боль и, может быть, действительно любовь.
– Любим? – Она отшатнулась и презрительно расхохоталась: – Неужели ты и вправду возомнил, что я могла полюбить тебя – каторжника?! Ха-ха-ха! Да ни одна женщина, хоть немного уважающая себя, не может любить такого! Любим! И ты думаешь, что можно любить подлеца, который заманил, наобещал златые горы! Писатель! Гоголь! – Худое тело сотрясалось не то в смехе, не то в рыданиях. – Ни денег, ни квартиры порядочной! О-о-о! За что, Господи, за что?
Он нежно провел дрожащей рукой по спутанным распущенным волосам.
– Прости, если сможешь. Я уйду, не могу…
Маша вдруг стиснула его руку с такой силой, на которую иногда способны чахоточные.
– Не уходи! Слышишь, ты, каторжный, не уходи! – Она привстала на коленях и схватила его за плечи. – Да я никогда никого не любила так, как тебя, а ты, ты… – Кашель начал душить ее, и розовые пятна вспыхнули на щеках. – Я знаю, все знаю, я тебе противна, омерзительна, ты избегаешь меня, ты вместо того, чтобы быть со мной, ночами все ходишь и ходишь… О, я сойду с ума от твоих шагов…
Истерика продолжалась несколько часов, и только к вечеру Мария Дмитриевна, всхлипывая и повизгивая, затихла.
Он вышел к себе и долго курил, глядя в незакатное небо. Так жить ужасно, но ведь и умирать не лучше. У бедной не осталось ничего, кроме болезни и своих фантазий. Боль за нее, за ее обреченность жгла душу. Сколько еще ей осталось – и на сколько хватит его исстрадавшегося сердца?
Ах, если бы дети…
Он вспомнил, как долго и честно пытался перенести не растраченную еще любовь к ней и нерожденным детям на Пашу. Пасынку, быть может, еще тяжелей, чем ему: без отца, при такой матери, – но, увы, он не находил в себе чувств не только родственных, но и просто дружеских. Мальчику семнадцать лет, а ничего серьезного, фатоват, пошловат, самомнение, как у наследного принца. С утра опять за деньгами, причем с таким видом, будто он обязан ему кругом, как у должника требует…
Нет семьи и уже не будет. Ах, эта бездомность в собственном доме, бесприютность, безнадежность.
Он смял недокуренную папиросу и, сам не зная зачем, вышел на улицу. В двух шагах за углом, в Первой роте, сел за грязный столик в дешевом трактире и неожиданно для себя заказал полпива.
Так неужели никогда уже не видать ему счастья, неужели он настолько сроднился со страданием, что никакие неожиданности не способны ничего изменить в его обреченности?
Трактир к ночи все больше заполнялся мастеровыми, рабочими с военных складов на противоположной стороне и проститутками, промышлявшими около Главного лазарета [79].
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной… [80]
Напротив сидел какой-то смуглый малый, судя по иссиня-черным длинным волосам, цыган, пил водку, и в лице его были такая тоска и такая неопределенность, что хотелось закричать, ударить по столу кулаком или сделать еще что-нибудь, окончательно бессмысленное и непристойное.
Он с отвращением глотал тепловатую жидкость и уже готов был увидеть среди этих простоватых мессалин существо чистое и возвышенное.
Глава 9
Казначейская улица
Апа стояла у безликого, пыльного дома, из-под арки которого тянуло не только кошачьими, но человеческими запахами, и удивлялась сама себе. Зачем она притащилась сюда? Надо сказать, что Апа, выросшая на купчинских просторах, вообще не любила и не понимала центра города. Какому нормальному человеку могут нравиться эти скопления улиц, где и ходить-то, кажется, надо согнувшись? Эти страшные дворы размером с пятачок, гниющие помойки, фыркающие тебе буквально в нос машины? Да и в расхваленных парадных местах нет уж ничего такого особенного. На Невском вечно толчея, на набережных – ветрище, в Летнем саду – платный вход. А что касается проживания там всяких великих людей и совершения исторических событий – так ведь это было давно, и никто ведь не живет в музеях.
Правда, после того как она сменила свой маникюрный салон на Бухарестской на крошечный подвал театрика в центре, ей пришлось чаще и плотнее сталкиваться с жизнью этой части города. Надо отдать должное – для переживаний там было уютнее, интимнее и как-то удобнее. Маленькие загазованные скверики таили свое очарование, разномастные дома развлекали, и все было доступней. Но в целом Апа все-таки оживала только тогда, когда возвращалась на вольные выпасы Будапештской, где все было ясно, четко, понятно. Подгулявшая шпана была своя, манера общения в магазинах тоже, и только недавно Апа вдруг поняла, что на самом деле Питер давно уже не Питер, а какое-то странное скопище нескольких совершенно различных городов, волею времени вынужденных существовать вместе. И города эти не только разные, но и находятся друг с другом в постоянной и очень сложной борьбе, если не сказать ненависти, несмотря на то что обречены все время пересекаться, переливаться, спутываться. Еще полгода назад она несомненно встала бы в этой войне на сторону откровенной простоты окраин против жалкого снобизма центра. Однако сейчас что-то стало притягивать ее к этим серым плешивым домам, мутным улицам и загаженным речкам. И Апа не боролась против этой не очень понятной и приятной ей симпатии, поскольку когда-то услышала, что актер должен переплавлять в себе все. И пусть до актерства было еще неизвестно сколько, она честно пыталась поступать именно так – впитывать в себя все что можно и каждый вечер перед сном раскладывать увиденное, услышанное и почувствованное по полочкам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу