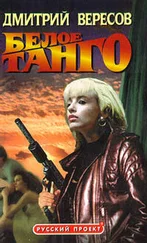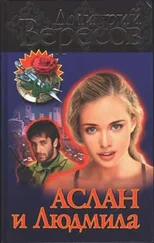Дах отправился позавтракать в бывшую пельменную, в Казачий переулок, более приличные заведения в этот час не работали. Он сидел, смотрел в окно, курил, не думая уже ни о чем, и постепенно утренние миражи рассеялись, как тучи над городом. Данила до того впал в какое-то разморенное теплом и покоем состояние, что едва не опоздал к назначенному времени. На Сенной, как всегда, было столпотворение, в котором его, как ни странно, больше всего раздражали торговки творожными сырками. Почему-то эти невинные колбаски, так напоминавшие Даниле эскимо его детства за одиннадцать копеек, вызывали в нем прилив почти животной ненависти, и каждый раз, проходя мимо цветастых лоточков, он с трудом удерживался от желания пнуть, разбросать, растоптать все это безобразие. И сейчас, проходя мимо, он с привычной легкостью стянул несколько штук, чтобы за углом сладострастно размазать их о стену. Впрочем, на Сенной уже лет двести ничто никого не удивляет.
Над Канавой [76]висело облако смрада, а в бурой воде плавало все, что может выхаркнуть из себя многомиллионный город. Ощущение мерзости усиливалось и липкими от сырков пальцами. Но, едва взойдя на середину моста, Данила замер и забыл об окружавшей его дряни: Аполлинария стояла не просто у дома Астафьевой [77], но возле самой парадной, откуда ведет лестница на второй этаж, в квартиру Достоевского.
* * *
Картинка за окном изменилась: теперь вместо глухого переулка открывался вид на крышу небольшого двухэтажного домика, и от этого почему-то становилось легче. За крышами синели купола собора. Правда, Маша поначалу настаивала на первом этаже, но он все-таки уговорил ее перебраться повыше. Но ее окна выходили не на собор, а снова в затрапезную улочку, отчего она испытывала болезненное удовлетворение, постоянно попрекая его столь мизерным видом.
И действительно, страшно было заходить к ней: душный запах лекарств мешался с ароматами «Coeur de Jannette», ее любимыми духами, от которых теперь у него подступала к горлу тошнота. Повсюду батистовые платки с кровавыми пятнами, тазы с водой, разведенной уксусом, страшная изнанка женской жизни. Но даже она бывала порой фантастически хороша: нежная фарфоровая кожа, высокие скулы, жадный, луком изогнутый рот…
Смесь вожделения и омерзения овладевала им, и потом он еще долго не мог успокоиться, куря дешевые папиросы и меряя шагами комнату.
А Маша с каждым днем становилась все требовательней – и не только в любви. Вчера, например, приказала, чтоб непременно привел к ней Тургенева, он, мол, к ней расположен, отметил ее еще на постановке в зале Руадзе [78]. А сегодня с утра и думать запретила об Иване Сергеевиче, зато достань ей хоть из-под земли сирени. А какая в мае сирень?!
Он тяжело прошелся по вытертому ковру. Ощущение пустоты и беспросветности давило душу. Журнал спасал плохо, да еще и когда он будет, тот журнал. А пока ни дела, ни денег, ни видов на будущее. А хуже всего, что нет ничего начатого, чтобы хоть на время уйти в писательскую маяту. И писать, честно говоря, не хочется.
В соборе зазвонили к обедне; синий гул плыл по воздуху кругами, медленно и гулко стуча в окна, в охладевшее ко всему сердце. Ах, Господи, опять он забыл закрыть окна – ведь Маша последнее время не выносит колокольного звона, у нее начинается мигрень или, того хуже, нервные припадки.
И тотчас из ее комнаты послышался сначала тихий, а потом душераздирающий вопль:
– Черти! Черти, вот они, черти!
Он ворвался в комнату, задыхаясь, и увидел, что Маша стоит на кровати, прижавшись к стене, и дрожит крупной дрожью, уродующей ее белое, как маска, лицо.
– Теодор, вот они, вот, на занавеси… и еще там, за трельяжем… Теодор, мне страшно, страшно!
Он с трудом сохранил серьезное и спокойное выражение лица и принялся делать вид, что выгоняет бесов в окно. Маша следила за каждым его движением, и глаза ее, казалось, становились все больше и отчаянней. Наконец, окна были закрыты, и она тихо сползла на подушки.
– А часы? Ты опять забыл часы? – вдруг выкрикнула она и заломила костлявые страшные руки.
С некоторых пор Маша стала требовать, чтобы все часы в доме заводились до такого предела, что лопались пружины. Остались только ходики в ее комнате, и их мерный стук, успокаивая ее, доводил его до сумасшествия.
Но он покорно завел последние часы, сам суеверно веря, что с ними остановится и ее жизнь.
– Ты успокоилась, Маша? – тихо спросил он и осторожно присел на край кровати.
О, этот чудовищный запах больной женщины! Он до боли прикусил губы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу