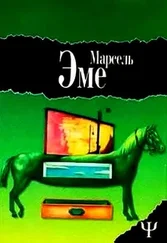— Предатель рухнул к подножию столба… Последний выстрел, чтоб не мучился… Готов.
Мари-Анн поднялась с кровати и, когда брат ее пробормотал последнее слово, влепила ему пощечину. Позабыв, что правдоподобие требует изобразить недоумение, Пьер привстал на постели и прорычал: «Дура проклятая, ты мне за это заплатишь». Он уже собрался было броситься на сестру, но Максим Делько вцепился в него из всех сил.
— Послушайте, успокойтесь. Не будите весь дом.
— А вы отвяжитесь. Отпустите меня, поняли? Отпустите меня, иначе…
— Пьер, — сказала Мари-Анн, — если ты не утихомиришься, я позову папу. Господин Делько, мне очень стыдно за поведение брата…
— Ну что вы, это неважно, — запротестовал Делько. — Ваш брат просто решил позабавиться. Ведь он еще ребенок.
Мари-Анн вернулась за ширму, и вновь воцарилось молчание, но Пьер еще долго не мог уснуть. Он плакал от стыда и ярости.
На плиточном полу играли в карты убийца, сатир, вишистский доктор и гестаповец. Все четверо были людьми спокойными, уравновешенными, воспитанными. Никогда между ними не вспыхивало ссоры, никогда их взаимопонимание не нарушалось раздраженным или даже просто неуместным словом.
Убийца был профессионалом, обожавшим свое ремесло. Правосудие обвиняло его в четырех бесспорных преступлениях и подозревало еще в дюжине других. Он глупо попался позавчера из-за поломки автомобиля и теперь ожидал перевода в Париж. Ни он, ни гестаповец не питали ни малейших иллюзий по поводу ждавшей их участи. Бюффа, осведомитель гестапо, отправил троих на расстрел и человек пятнадцать в концлагеря. Каждое утро его выводили из камеры во двор, где он получал очередную порцию побоев от активистов ФФИ. Его лицо, скорбное и суровое, с низким лбом и прямым взглядом, было сплошь в кровоподтеках. Никто не повторял так часто, как он, и по любому поводу: «Это несправедливо». Сатир, булочник с наивной физиономией, изнасиловал двенадцатилетнюю девочку. Он утверждал, что не понимает, как такое могло произойти, поскольку никогда особо не тяготел к прекрасному полу. В час, когда во двор для ежедневной прогулки выходили женщины, его ни разу не видели среди тех, кто жадно приникал к решетке окна, и непристойные шуточки сокамерников даже не пробуждали его любопытства.
Доктору Лерону, хоть он и частенько вспоминал о своей жизни честного человека и добросовестного врача, нравилось быть в компании убийцы, сатира и стукача. Он даже по-своему привязался к ним. Остальные заключенные — Мере и Шапон, обвиняемые в антифранцузских происках, Лапрад, брат сбежавшего милисьена, и кабатчик Леопольд — наверняка были людьми добропорядочными. Ни один из них не убивал, не насиловал и не доносил в гестапо. Тем не менее доктор предпочитал им убийцу, сатира и стукача. Такой выбор немного смущал его самого, и иногда он пытался упрекнуть себя за это. В своей прошлой жизни, жизни свободного человека, он никогда не отдавая симпатий преступникам или людям сомнительной морали. По правде говоря, все его друзья принадлежали к определенному кругу, его кругу, в котором известная честность обладала коммерческой ценностью. И все же, наверное, не только моральные достоинства влияли в ту пору на его выбор. Сколько раз случалось ему обнаруживать у больных бедняков высокие добродетели и деликатные чувства, но он никогда не приглашал их отобедать, ему и в голову не приходило записать их в свои друзья. В тюрьме, где реальности совместной примитивной жизни стирают социальные различия, сродство душ проявляется, по-видимому, с большей свободой. Размышляя над этим, доктор начал даже спрашивать себя, уж не обладал ли он изначально тайной склонностью к насилию, убийству и доносительству.
Партия разыгрывалась вяло, и убийца предложил подбить бабки и на этом закончить. Шапон, Мере и Лапрад, стоя у окна рядом с унитазом, разговаривали о жизни, оставленной за стенами тюрьмы. За три недели, проведенные вместе, они успели многое рассказать о себе друг другу и с каждым днем заходили все дальше в своих откровениях. Шапон, судебный исполнитель с улицы Кеглей, первое время все больше помалкивал, зато потом наверстал с лихвой.
— Вот у моей жены, — сказал он, — таз узковат. Ляжки тоже не особо мясистые. Обратите внимание, они вовсе не тощие. Просто у Элизы не то, что называют толстыми ляжками. Но она прямо как порох. И щипнуть не успеешь.
Леопольд, мрачнее тучи, мерил камеру шагами, с трудом переводя дух. Передвигался он как-то судорожно, нервно подергиваясь, не зная, куда деть руки, — то засовывал их в карманы, то вынимал, то, проходя мимо двери, ударял кулаком по сваленным в кучу соломенным тюфякам. Остальные избегали разговаривать с ним о чем бы то ни было и всячески старались ему не перечить — временами казалось, что он ищет лишь предлога для драки, и никому не хотелось попасться ему под горячую руку. А ведь в первый день в камере он произвел прекрасное впечатление. До самого вечера был жизнерадостен, добродушен, болтал, шутил и развлекал собратьев по неволе эпизодами из своего ярмарочного прошлого и тирадами из Расина. За исключением убийцы, который был не из этих мест, все узники знали Леопольда давно и радовались, что он оказался среди них. Но он уже в первую ночь спал беспокойно. И хотя наутро проснулся в хорошем настроении, вскоре начал хмуриться и, по мере того как день вступал в свои права, становился все более молчаливым и раздражительным; руки его дрожали, взгляд потерянно блуждал по стенам.
Читать дальше
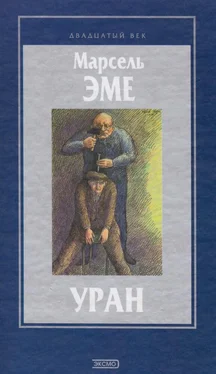
![Марсель Эме - Проходящий сквозь стены [Рассказы]](/books/26795/marsel-eme-prohodyachij-skvoz-steny-rasskazy-thumb.webp)
![Марсель Эме - Зелёная кобыла [Роман]](/books/28168/marsel-eme-zelenaya-kobyla-roman-thumb.webp)